 |
 |
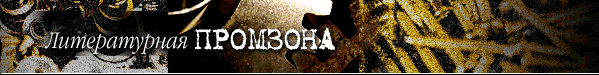 |
 |
 |
 |
Рефлексии |
Виктор
Кривулин
БУДДИСТСКИЕ ПТИЦЫ И ЖЕРТВЕНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
(Субкультура Черной Речки на закате Империи)
У каждого литературного поколения своя вечная весна, и у каждой вечной весны собственная география, а точнее, космография, с особыми запретными зонами и сакральными территориями. Такой священной "вечновесенней" территорией для меня навсегда останется пространство между Каменным островом и Новой деревней, ограниченное четырьмя точками - с севера Буддистским храмом на Приморском шоссе и "рощей Пушкинской дуэли" близ Комендантского аэродрома, а с юга псевдоготической часовней Иоанна Предтечи, где Пушкин крестил детей, и ложноклассической ротондой в излучине Крестовского острова, используемой тихими военными пенсионерами в качестве читальни при ЦПКиО им. Кирова. В центре этого четырехугольника располагалась сгоревшая сразу после революции Вилла Роде за чугунной оградкой (уцелел один только краснокирпичный пряничный флигилек с башенками) и квартира Лены Шварц в элитной хрущобе силикатного кирпича на Школьной улице, полученная ее мамой, Диной Морисовной, которая долгие годы была самым незаметным и незаменимым литературным человеком при властном Г.А. Товстоногове, жившем тоже совсем неподалеку.
Здесь, независимо от времени года, всегда цвела и цветет сирень, она тут зацветала позже, безумнее, и держалась дольше, чем в других местах города. И даже пахла она иначе - мощно, басовито, вызывающе, почти хулигански, так что вполне могла бы сгодиться для декораций немого фильма с поэтом Маяковским в главной роли. Барышня, кажется, и Хулиган... Барышни испокон веку прогуливались на островах, а жили неподалеку, в районе Савушкиной улицы. Хулиганов к ним с Петроградской пачками привозил 33 номер трамвая. Местом встречи полов и культур был Масляный Луг, идеальное пространство для антуража исторического фильма, театральных репетиций и массовых потасовок. Обживать это пространство нужно было осторожно, с оглядкой и чувством дистанции, избирая дальние глухие аллеи, либо неухоженные набережные Большой и Малой Невки, лишенные оградок, по-домашнему разоблаченные.
Здесь-то мы и гуляли на закате века и тысячелетия - бездомные поэты, доморощенные философы, книжные иллюстраторы и просто безработные филологи - ведя необязательные, но захватывающие беседы, начатые совсем другими людьми еще в начале столетья. Тени Маяковского и Блока слонялись и дробились на дорожках рядом с нашими во время бесконечных ночных прогулок по слабоосвещенным чащобам, среди руин каменностровского модерна, по совковым кустистым дворам послевоенной (говорят, пленные немцы работали) застройки. Мы двигались вдоль идиллически-извилистого русла Черной речки, оттененной ближе к устью буйными взрывчатыми выбросами бузины и барбариса, а под ногами, из-под земли то и дело вперемежку самовыковыривались осколки авиабомб и куски мраморных плит, коими, по свидетельству кн. П.А. Вяземского, мощены были когда-то, в начале ХIX века, берега этого излюбленного столичными повесами места для философических и амурных променадов.
Но мы были людьми другой эпохи. Путаные прогулки наши проходили на фоне тупо прямолинейного движения. То и дело из-под Ушаковского моста стремительно выстреливали прямые и длинные "академички", двойки, шестерки - и, натянутые, как струны, вперегонки уносились к заливу, расталкивая последние льдины, оставляя сбоку неосвещенные штористые окна Правительственной дачи, той самой загадочной резиденции К-1, где, по слухам, живывали и обученный фортепьянным экзерсисам кровосос-Жданов, и простецкий живчик-Хрущев, и древний Брежнев во дни их недолгих наездов в бывший город Ленина.
В то время Ленинград был буддистской столицей империи, и нас, как магнитом, притягивал к себе заброшенный буддистский храм, где по иронии судьбы располагалась лаборатория по вивисекции Зоологического института. Вахтер за пачку сигарет пускал нас в святилище науки. Кроме него, я никогда там никаких других людей не видел. Когда работали вивисекторы, оставалось загадкой. Но они работали. В алтаре, расписанном облупившимися мандалами, гудели холодильные шкафы, где хранились, по словам сторожа, расчлененные тела животных - тех самых священных ланей и обезьян, чьи позолоченные изображения украшали храмовый фасад. Вполне могло случиться, что когда я долго разглядывал эти фигуры, помещенные по обе стороны от символического Колеса Сансары, ко мне обращается некто, весь состоящий из острых углов, но двигавшийся плавно и упруго, как кошка, принявшая человеческий облик: "Вы знаете, что здесь стояла золотая статуя Будды?" Я не знал. "Она исчезла в 30-е годы. Подозреваю, что ее зарыли где-то здесь, за оградой. Не хотите присоединиться к поискам?". Незнакомец представился бы Сэнди Конрадом, а я был бы горд тем, что познакомился с легендарным Сашей Кондратовым, поэтом, знатоком тибетского языка, сильным йогом и практикующим поклонником Генри Миллера. Его стихи до сих пор не изданы, хотя многое из того, что спустя четверть века рискнули проделать московские концептуалисты, с блеском опробовано и отброшено Кондратовым еще в конце замшелых 50-х. Он занимался расчленением традиционных литературных жанров, вивисекцией словесных форм с методичностью естествоиспытателя, озабоченного поисками физического вместилища души, соединяя клондайкскую романтику с психоделическими практиками тибетских монахов.
На самом деле мы познакомились с ним позже, в начале 70-х, но первый же разговор действительно коснулся Золотого Будды и оскверненных храмовых помещений. Мы разговаривали так, словно встретились десятилетием раньше у ограды буддистского храма, а потом часами бродили вокруг виллы Половцева и вдоль Приморского шоссе, и Сэнди в обычной своей ернической манере, с легкостью необыкновенной посвящал меня в сокровенные тайны ламаистской эзотерики. Мы говорили бы, наверное, о священных животных, о цепи перерождений, о конце Калиюги, а с Крестовского острова доносилась бы духовая воскресная музыка, гремел искаженный репродуктором голос вселенского массовика-затейника. Народ развлекался.
Но мощнее, чем гул далекого праздника, гремели из-за речки соловьиные трели. Это были настоящие, а не механические соловьи. Саша Кондратов умер несколько лет назад. Гроб с его телом, в окружении казаков и последних ленинградских мистиков, стоял в бывшей бильярдной Союза писателей, откуда-то из далекого гардероба слабо слышалось радио, неуместный искусственный писк ностальгического "Танго соловья", мелодии, популярной лет 30-40 назад.
Первого своего соловья я услышал как раз рядом с Черной речкой, до того имея лишь книжное, весьма смутное представление об этой мифологической птице. Мы пили обычный тридцать третий портвейн в крошечной прокуренной и вечно полутемной комнатке Лены Шварц, полной дефицитных книг, сюрреалистических видений и одухотворенной буквенной пыли. Миниатюрная шестнадцатилетняя поэтесса, убежденная, будто жить ей осталось не больше года, а за это время она просто-таки обязана создать нечто настолько гениальное, чтобы солнце русской поэзии навсегда померкло и скукожилось, не выносила яркого света и распахнутых окон. Но в помещении было так душно, что окошко все равно пришлось чуть приотворить, правда, плотно прикрывши щель темно-зеленой занавеской. И тотчас, в образовавшуюся щелку, хлынула неестественно громкая соловьиная трель, заглушая бисерный визионерский пассаж поэтессы о крохотных, размером меньше спичечной головки, бесах (прямо по Якову Беме), которых она намедни видела в ванной, у зеркала. Невидимый соловей за окном казался огромным и всамделишным, не в пример книжным бесам. Он заставил себя слушать. Это было что-то вроде урока практической поэтики, и много позже, в стихах Елены Шварц, написанных где-то уже в середине 80-х, я уловил отголосок той давней соловьиной атаки:
Соловей засвистал и защелкал -
Как банально начало, но я не к тому.
Хотя голосовой алмазною иголкой
Он сшил Деревню Новую и Каменного дышащую мглу...
................................................................
Он рыл тоннель в грязи пахучей ночи...
Соловей у Шварц спасает мир, соединяя расчлененные части бытия. Он как бы гибрид историка и поэта, бастард Барышни и Хулигана, полукровка...
Мой отец - еврей из Минска,
мать пошла в свою родню.
Было б, право, больше смысла
Вылить сперму в простыню.
Но пошло и я родился
Половинчатей отца:
Я - как русский - рано спился,
Как еврей - не до конца...
И звезда моя навечно
Неясна и далека.
Если вдруг пятиконечна,
Не миную кабака,
Ну а если из тумана
Мне покажется желта
Из жидовского шалмана
Иудейская звезда?
Будет так или иначе -
Все равно не сдобровать, -
Две звезды, кряхтя и плача,
Душу могут разорвать
Так писал поэт Евгений Вензель, первый муж Елены Шварц, молча и значительно появлявшийся в доме на Школьной улице и часами сидевший в углу неподвижно, не снимая раскольниковского картуза, подняв воротник наглухо застегнутого ватерпруфа. Он был выглядел как помесь Жана Габена из"Набережной туманов" с Жаном Маре из итальянских "Белых ночей", где героиня, юная и нищая венецианка, зарабатывает на жизнь грошовым золотошвейничеством.
Мы тоже занимались чем-то вроде самодеятельного крой-шитья или вышивания, хотя и работали с материалами дорогими и благородными, вроде парчи, атласа, тонких шелков. Удивительно, до чего озабочены были мы тем, как наилучшим образом сшить воедино разорванный мир, чья лоскутность особенно остро ощущалась именно здесь, на островах петербургской дельты, расчлененных многочисленными водными рукавами, искусственно разнесенных по разным эпохам и несоединимым социальным средам? В ушко соловьиной иголки следовало играючи продеть некую словесную нить, но работать приходилось почти вслепую, исколотыми при неверном свете рабочей лампы пальцами, наподобие близорукой вышивальщицы из стихотворения Артюра Рембо или с картины Вермеера Дельфтского. Наши словесные игры на Черной речке чем-то походили и на вызывающе-кооперативную швейную мастерскую Веры Павловны Розальской-Лопуховой-Кирсановой из романа "Что делать?". Отсюда оставался шаг до подпольного изготовления адской машины, но слава Богу, мы ограничивались только миром слов и образов, опасаясь, скорее по соображениям эстетическим, шагнуть за ограду Соловьиного сада - и очутиться в каком-нибудь Соловьевском или другом общественно-митинговом скверике.
Конец шестидесятых. Женя Вензель в роли режиссера-постановщика превращает портативное обиталище своей гениальной супруги в репетиционную залу. Силами друзей-поэтов он ставит одноактную пьеску Елены Шварц, основанную на одной из самых загадочных историй Екатерининского времени. Герой пьесы - капитан Мирович, охранявший в Шлиссельбургской крепости арестованного еще во младенчестве Иоанна Антоновича, который, будучи законным наследником престола Российского, провел в заключении больше 20 лет. Мирович подымает восстание с целью низложить Екатерину Вторую и вернуть трон законному государю Иоанну V. Капитанский бунт изначально обречен, абсурден, тем и привлекает нас. Лена играет Екатерину, а будущий самодеятельный теолог, (тогда еще поэт) Женя Пазухин - несчастного принца. К лампочке под потолком, создавая иллюзию рассеянного сценического освещения, привешен железный дуршлаг, убогий свет сочится сквозь дыры в алюминиевом донце.
Середина семидесятых. В той же тесной каморке - Заседание Великого Обезьяньего общества. На Черной речке подхватывают старинную затею Алексея Ремизова, обогатив ее сложными ритуалами, нагрузив пародийно-академической серьезностью и одновременно - предоставив возможность для любых безудержных фантазий. "Шимпозиумы" - так именуются эти собрания - происходят раз в неделю и состоят из двух частей - официальной и неофициальной. Официальный регламент строг: два доклада. Один - подробный рассказ о каком-либо одном дне из жизни какого-нибудь известного исторического лица. Рассказ должен быть связным и осмысленным. Второй доклад - развернутый анализ одного стихотворения, обязательное условие - обнаружить то, чего никто другой, кроме докладчика, не смог бы заметить. Затем следует тайное голосование путем опускания разноцветных обувных шнурков в специальную (тоже из-под обуви) коробку с прорезью, торжественное обнародывание результатов, и наконец - увенчание докладчика заслуженными лаврами. Высшая оценка - черный шнурок, низшая - красный. Каждый участник "шимпозиума" обязан во время докладов надевать свитую из заслуженных им шнурков разноцветную нагрудную цепь, причем цепь эту нельзя было снимать и после окончания официальной части, когда приходил черед откупоривать бутылки и расставлять стаканы. Но даже тогда, в неформальной обстановке запрешалось именовать сотоварищей их "светскими" именами, у каждой Великой Обезьяны - только эзотерическая кличка. "Сестра Шимп" - сама Лена Шварц. "Брат Оранг" - это я, Виктор Кривулин. "Сестра Уистити" - прозаик Белла Улановская. "Брат Хануман" - философ Борис Гройс, профессорствующий ныне в Карлсруэ. "Брат Кинконг" - Борис Останин, редактор самиздатских "Часов".
Если перечислять всех, кто участвовал в "шимпозиумах" на Школьной, мы получим почти полный список тех деятелей "Второй культуры", чьи имена ныне известны по книгам и публикациям в периодике. Православный богослов Татьяна Горичева, например, или наоборот, активисты-отказники,из ортодоксальных евреев. Доклады фиксировались, сохранились магнитофонные записи, когда-нибудь архивы "обезьянника" будут изданы полностью, как протоколы заседаний прославленного "Арзамаса". Обезьянник едва не закончился смертоубийством. Только чудо спасло брата Кинконга, когда на его голову обрушилась бутылка водки - сестра Шимп была выведена из себя во время затянувшейся неофициальной части. Удар пришелся по виску, миллиметр ниже - и наши игры стали бы достоянием судебной хроники.
Бедный Михаил Берг - он рискнул спустя 10 лет после удара по Останину реконструировать атмосферу "шимпозиумов" в своем романе "Мемомуры", изданном под вычурным псевдонимом со скромным расчетом на коммерческий успех, а все напрасно. Роман появился не ко времени, прошел почти незамеченным, как дымный облак над страной, вступившей в полосу реальных ритуальных и заказных убийств и шумных газетных разоблачений. Наша история тихо отошла в сторонку и принялась ждать отмеренного ей часа.
Жизнь художника, вообще-то говоря, в своем предельном развитии самоубийственна. Душевное напряжение грозит внезапно разрешиться кризисом, скандалом, истерикой. Что нас тогда спасало от истерик и скандалов - так это вид темного Каменного острова за рекой, шум листвы, запах сирени. Стихи заглушали боль, и мастером такой стихотворной анестезии был поэт Женя Феоктистов, платонически влюбленный все в ту же Лену Шварц. Нелюдим, боящийся всех и вся, он, бывало, звонил мне среди ночи, заставлял одеться и выйти из дому, и мы бродили с ним до утра между Комендантским аэродромом и Каменным островом, беседуя о стихах, о Гомере и Еврипиде, как ни смешно, о Пастернаке и Елене Шварц, о Цветаевой и Олеге Охапкине. Женя обладал необыкновенной физической силой - коренаст, длиннорук, вот уж кто был воистину внешне обезьяноподобен и страшен во гневе. Сергей Довлатов, чем-то некогда задевший Феоктистова, вынужден был позорно бежать сквозь весь электропоезд, прорываясь из вагон в вагон, пока тот, как разъяренный жертвенный бык, не настиг обидчика, не припер его к стенке и жарко не выдохнул в лицо насмерть перепуганного мастера пера: "Нехорошо, господин советский прозаик. Очень плохо." Он умер в прошлом году от инфаркта, ненадолго пережив автора "Зоны". Чуда не произошло.
Стихи Феоктистова рано или поздно всплывут из небытия. Я вспоминаю их, стоит оказаться вблизи Каменного острова или на Приморском шоссе, у бывшего ЦПКиО. Темные аллеи пронизаны тревогой и страхом. Это страх перед самим собой, ночной кошмар неосуществленной, но уже исчезающей в неизвестном направлении жизни. Чьей? Твоей, только твоей - чьей же еще...
Случайное лицо,
Мелькнувшее в тумане,
Похоже на яйцо,
Зажатое в кармане...
Только сейчас становится ясно, до какой степени все мы были зажаты, вторичны, вымышленны. Зеленые массивы парков создавали иллюзию дыхания, но оно продолжало оставаться тяжелым и сдавленным. Руины придавали ощущению наших судеб видимость архитектоники и осмысленной культурной работы, но они оставались руинами, ветшали себе дальше, пока мы жили с нарастающей одышкой Легкость являлась на какие-то доли секунды. Но именно они, эти доли, как оказывается, и составляют всю жизнь, остаются жить после жизни, как лодки на плаву после шторма. И, воскрешая их, отчетливо понимаешь, что всем нам еще предстоит настоящее Великое Плаванье. Плаванье мимо гребных эллингов и яхтклубов, в лабиринте островов Дельты, где, согласно стихам Жени Феоктистова
Как в некоем просторе в час луны
Мерцает жизнь вне выводов и плана,
Вот так и в сон вплывает из тумана
Фрегат без парусов, без капитана,
Помимо воли, пленник пелены.
Где странствует строитель корабля?
Не отвечает вестница-простуда.
Плывет он в никуда и ниоткуда,
Не торопясь до времени, покуда
Над горизонтом не взойдет земля.
|
|
 |
|