 |
 |
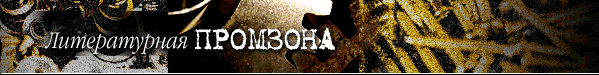 |
 |
 |
 |
Рефлексии |
Дмитрий Голынко - Вольфсон
О Бздящих народах Александра Бренера
А. Бренер, Б. Шурц. Бздящие народы. - Москва: Bad Habit, 1999.- 214 стр. - Тираж 500 экз.
А. Бренер, Б. Шурц. Ртутные палочки или прямые слова Брабары и Александра двух анархистов. - Москва: Bad Habit, 1999. - - 192 стр. - Тираж не указан.
|
| Не только эрудитам и профессиональным интерпретаторам актуального русского искусства, но и любопытствующим соглядатаям, тусовочным фланерам, имя Александра Бренера наверняка знакомо (хотя бы понаслышке) как скандально-эпатажная эмблема самой шоковой сенсации в русском искусстве 90-ых - московского акционизма. Уроженец Казахстана с израильским паспортом, неукротимый и непредсказуемый номад культурного пространства, кочующий из Москвы в Нью-Йорк, а из Милана в Мехико, Бренер превратил технику уже чуть старомодного перформанса в злободневное "орудие сопротивления" против нормативов и догм, крючкотворства и сутяжничества нынешних культурных институций. |
| В качестве энциклопедической справки упомянем здесь далеко не полный каталог его радикально культуроборческих акций, раскрученных и теоретически откомментированных сперва топовыми культурными полосами московской прогрессистской прессы, а затем и мировыми престижными журнальными "форумами" типа "Flash art". Артистическое портфолио Бренера включает такие эксцентричные, намеренно сомнительного вкуса, но с несомненным провокационным потенциалом, экстремальные арт-действия как опорожнение у "Подсолнухов" Ван Гога в Пушкинском музее; мастурбация перед бассейном "Москва"; вызов президента Ельцина на боксерский матч, (вместо бойцовского ринга предлагалось утилизовать брусчатку Красной площади); уничтожение на стокгольмской выставке "Интерпол" инсталляции нью-йоркского китайца Венда Гу, сотканной из пожертвованных волос шведских женщин; возведшее Бренера на пик европейской известности нанесение зеленым пульверизатором знака доллара на "Белом квадрате" Малевича (в Стеделик-музеум, Амстердам). Наконец - last, but not least - растиражирование своих прокламационных анархических манифестов против нынешнего закамуфлированного "террора" институций в нескольких книгах, прожитых и исполненных совместно с австрийским радикальным художником и жизнестроителем Барбарой Шурц. Две из них - "Бздящие народы" и "Ртутные палочки" - опубликованы в Москве в издательстве "Bad Habit", при содействии Дмитрия Нартова, пропагандиста бренеровского литературного бретерства, из тех немногих в столице интеллекуталов, кто до сих пор не поссорился с неугомонным скандалистом. |
| Моментально бросается в глаза, что оба издания выпущены на русском языке, что, казалось бы, задает фоновый оттенок дискриминации в тандеме двух иноязычных авторов. Но чтение буквально первых двух трех страниц убеждает: никаким национальным или сексистским шовинизмом тут и не пахнет. Просто русский (даже при его нынешнем засорении транснациональными жаргонизмами, кстати, неизмеримо богаче, чем прочие, недвусмысленными скабрезностями, забористыми припечатываниями и стадионной бранью, то есть вербальным боезапасом, незаменимым для взвинченного и фрустрированного бунтаря-одиночки. Формально обе книги представляют собой мемуарно-дневниковые записи и памятки двух внешне благополучных, но внутренне затравленных и ощеренных возмутителей "европейской ночи", сравнительно безнаказанно анархиствующих под порно-видео, центнеры марихуаны, натурпродуктные гамбургеры и прочие атрибуты репрессивного гедонизма неолиберальной цивилизации. В первой, датированной 1998 годом - "Бздящие народы" - скомпилированы дневниковые маргиналии, путевые очерки, зарисовки, пометки на "случай" и, конечно, теоретическией инструктаж и практические рецепты "технологий сопротивления". Вторая книга - "Ртутные палочки" - охватывает период зимы-весны 1999 года (венские будни и совместное путешествие в Алма-Ату героев-сопротивленцев) и снабжена более детальными экспозициями и продуманным фабульным каркасом, хотя, на мой взгляд, чуть-чуть не дотягивает до первой по количеству выделяемого при письме адреналина, депрессивной скуки, ненависти к филистерскому комфорту и веселого, циничного либидо. |
| Полуправдивые и фривольно изложенные случаи, анекдоты и неурядицы из жизни и странствий двух энтузиастов мировой анархии оказываются в книгах на вторых, подсобных ролях, образуют не канву, а декоративный бэкграунд сюжета. Подавляющую, провокативно несоразмерную по отношению к трэшевому сюжету, часть обоих книг составляют то ли агитационно-пропагандистские листовки, то ли пространные релизы и растолковывающие буклеты к совместным хулиганским акциям художников, акциям, изъятым их музейно-галерейной ауры и перемещенным в книжный переплет. Раскиданный по обеим книгам событийный бурлеск (типа встречи в автобусе с контролером - двойником Берроуза, полуреальной истории об обливании супом Джанкарло Полити или фантомной притчи о домовладельце Крюгере, расчленившим расфуфыренную пассию) оказывается исключительно прозрачным прикрытием изворотливых партизанских "вылазок" художников против диктата постиндустриального изобилия и консумеризма. Для восходящих к ситуцианистам, Щеглову и Ги Дебору, Ноаму Хомски и Джорджио Агамбену, задиристых инсинуаций против неолибералитских ценностей. Для поклепов и нападок на новомодные товарные этикетки и лейблы позднего капитализма - на политкорректность, неоглобализм, принципы национального равноправия, экологические и киберфеминисткие теории, с начетнической истерией вколачиваемые в культурное сознание. Помимо развенчивающих отполированную либералистскую показуху манифестов, в книгах ударное место отведено под скоромные, временами натуралистические сцены изящных постельных непотребств, учиняемых изобретательными "художниками жизни". Книги Барбары и Александра - порнологический требник и катехизис "сопротивления вдвоем": в одном строю, в одной кровати, под одной обложкой. Благодаря беззастенчивости сексуального самоанализа и эротической авторекламы (когда в результате разнузданной и безудержной откровенности достигается какая-то плутоватая целомудренность) пикантное "натурписьмо" Барбары и Александра могло бы обогатить русскую литературу, скудную по части скабрезной продукции, новаторским для нее жанром словесной порно карикатуры (по соображениям внутренней цензуры, и из-за уважения к данному изданию цитаты опускаю). Безапелляционный, едкий и хлесткий политический скетч в одной упаковке с беззастенчивым порнографическим комиксом, словно почерпнувшим саркастичную манерность у кукрыниксов и притворную наивность и Диснея, - вот смягченная зарисовка жанрового мезальянса, набирающего обороты от прокламационного зачина обеих книг к синтезирующему финалу. А концептуальной сверхзадачей подобного постпостмодерниссткого "засыпания всех рвов" (перифраз работы Лесли Фидлера) между интимным и публичным остается уже давно практикуемая Бренером желчно издевательская критика институций с точки зрения обездоленного клошара или чернорабочего современного искусства. |
| Один из харизматических если не лидеров, то, по крайней мере, застрельщиков московской арт-сцены последнего десятилетия, Бренер прогремел и заработал себе очки популярности благодаря одиозным, эпатажным и автодеструктивным нападкам на саму эту сцену, на ее рыночно либеральный и одновременно ксенофобско кастовый регламент. Его дико-агрессивные, неаргументированные и брутальные выходки против фаворитов этой сцены - закидывание их яйцами или сознательные срывы их персональных выступлений - далеко не примитивные алгоритмы привлечения к себе коллективного любопытства и заинтригованного, испуганного пиетета. По отношению к московской, шире - российской, а в последнее время - и мировой арт-ситуации Бренер выступает в амплуа беспощадного и беспринципного штрейкбрехера-чистильщика. Ополчаясь на конвенциональные, обеспеченные рейтинговыми квотами и коммерческим просперити, персоналии и продукты современного искусства, Бренер дезавуирует и разоблачает их показной гуманистический лоск, наигранную манерную толерантность и афишированный либерально-критический пафос: "Паразитируя на неолибералистских институциях, новейшие конструктивисты имитируют рачительный активизм, проповедуют критическое знание и демократические ценности, но вся их деятельность, как муха в меду, вязнет в институциональной возне, то есть в нездоровом карьеризме, изнуряющем интриганстве и фрустрированной конкуренции". |
| Объектами и мишенями бренеровской поносной ругани и злоязычных пасквилей выступают эталонные прогрессивные политика вроде Мадлен Олбрайт или Тони Блэра, или прозападно настроенные фигуры восточно-европейского интеллектуального сообщества. Особо крупная порция улялюканий и насмешек достается словенскому философу С. Жижеку, - он шельмуется за его приверженность к американскому академическому истеблишменту, вроде как накладывающему вето на оригинальный этнический склад мысли восточно-европейского региона. Но в поистине раблезианских масштабах вышучиваются персонажи не понаслышке знакомой Бренеру московской арт-сцены - по его мнению, они "зачумлены" домогательства евростандартного благополучия, и оттого уперто невосприимчивы и аморфных к любому "критическому состоянию" мысли. Филиппики Бренера нацелены против лучших, наиболее вменяемых интеллектуалов, по тактическим или меркантильным соображениям (или следуя стратегиям выживания) приспособленных на роль исполнительных служащих интситуциональной идеологии, благосклонно пользуемых гастарбайтеров, а в случае особой выслуги - иждивенцев, посаженных на грантовскую ренту. Справедливости ради отметим, что бескомпромиссный максимализм Бренера столь же опосредован и подстегнут институциональным заказом, что и вынужденный сервилизм интеллектуальной элиты, - ведь институции равно заинтересованы и панегирическом, и в негативном, анти-рекламном отклике. |
| Афористично сумбурная манера бренеровского письма, узнаваемая по автоповторам, тавтологиям, вбиванию одних и тех же саркастических гвоздей в болевые зоны современности - по замыслу авторов должна разоблачить двусмысленность и лицемерие современной институциональной риторики. Эта риторика, препарированная Бренером с публицистично-прозекторской тщательностью, выглядит шаблонным набором ходовых гуманистических слоганов, - их искусные комбинации застят тот факт, что нынешние институции работают исключительно на воспроизводство и подкормку самих себя, убаюкивая своих социальных подопечных внешней непритязательной отзывчивостью и показным демократизмом. И если интситуция безукоризненно преподносит себя за проводника прогуманистических идеалов, тем верней в трактовке Бренера демаскируются ее властные претензии и абстрагированность от социальных неполадок. |
| В каждой фразе, как параллельно в любом своем арт-беспределе Бренер опускает эту шкурную ситуацию, кичащуюся своей респектабельной деловитой невозмутимостью. Своеобразным ответчиком за социальную невменяемость и замалчиваемый коллапс культурных институций выступает современное искусство. В экзальтированно культуроборческой патетике Бренера принципы консолидации арт-среды: грызня и возня мелкотравчатых себялюбивых авторитетов. Современное искусство - это коррумпированный институт самопотребления, где вместо диагностических ("прямых" в терминологии Бренера) конструктивных высказываний производится честолюбивая гонка и сшибка корыстолюбивых интересов. И оказывается, убеждает нас Бренер, вся институциональная ширма современного искусства - только маскировка ее мафиозного "клоповника", отмывающего все извлекаемые из околокультурного бизнеса дивиденды. Институты современного искусства, рассчитанные на социально резонансный и ответственный культурный истеблишмент, выступает уродливо-гротескными дублерами дестабилизированного социума, смахивающими на захолустный дворовый криминалитет. Артистическое кредо Бренера - кредо добровольного пария и мусорщика, взявшегося за капитальную уборку "авгиев конюшен" российской (и не только) криминализованной социальности. |
| Парадоксально, что в трактовке Бренера оптимальный современный художник вовсе не беломанжетный чистоплюй, а, может быть, наиболее замаранный и непризентабельный отброс этой социальности. Поэтому триумфаторами в подпольной схватке с торжествующими институциями сейчас оказываются вовсе не бунтари-террористы, отстаивающие свою бесшабашную незавимость от них, наподобие Rote Armee Fraktzion или Тони Негро. Имеют шанс выиграть в этом конспиративном и маневренном противостоянии только "специфические и локальные сопротивленцы" типа Барбары и Александра, - они со шпионской мимикрией внедряются в интситуции, притворяясь их штатными единицами, неотъемными винтиками, что позволяет им расшатать, частично обезвредить их изнутри. Умудренный невзгодами, тюремной отсидкой, депрессивной апатией, неомарксизмом и феминизмом, такой изворотливый сопротивленец (производное Барбары и Александра) прописан вовсе не на Запада или в России. Зона неусыпного сопротивления, офф-шорная, неподкупная институциональным подачкам, видится Бренеру в условном "третьем мире", - мире изгоев, отщепенцев, вынужденных иммигрантов и добровольных аутсайдеров, граждан "европейской ночи", теневой подкладки индустриального гламура. |
| Обитатели этого обсессивного мира, обнаружив собственную (или национальную) культурную несостоятельность, огульно обвинилми в ней всю систему западных институции, - современный художник и способен натурализоваться на Западе посредством его охаивания и регулярного ниспровержения его ценностей. Поэтому единственный шанс для него попасть в зону культурной расслышанности - это залаять, затявкать и загукать на весь разбалансированный социум, на травматическую криминализованную реальность, оперируя при этом с единственно доступным, внятным для нее экзальтированным языком, языком аффектированного телесного жеста. Это язык экстатического трансгрессивного жеста, направленного против ближайшего соседа за неимением других адресов сброса агрессивности; ламентация самого социума о трагической недостаче социального структурирования. Такой язык не вербален, но и не афатичен, не семантичен, но и не бессмыслен; его фактура скорее напоминает мускульный спазм спортсмена, не успевшего сгруппироваться перед неожиданным стартовым сигналом. |
| Прибегая к деструктивному телесному жесту, преподнося его как реквизит быстродействующего критицизма, современный художник моментально вычеркивается из фешенебельного и рыночно прибыльного артистического мэйнстрима, водворяясь в профессиональное гетто фанатичных бунтарей-одиночек. Выкарабкаться из этого гетто дано уже по ту сторону институций и символических конвенций, - и подобный эскапизм мотивирован всем бойцовским, неуживчивым темперамаентом Бренера (по крайней мере, в его артистичсекой ипостаси). Высвобождение от террора институций согласно Бренеру достигаемо только в конструктивном сотрудничестве и корпоративной близости с любимым, вроде бы спонтанно образуя с ним то неописуемое любовное сообщество, которое провиденциально предвидел Морис Бланшо. "Минут семь мы любили друг друга, как Меджнун и Лейла, потом как Тристан и Изольда, потом как кавалер де Грийе и Манон, потом как мадам Бовари и ее хер, потом как Эгон Шиле и его сестричка, потом как Бонни и Клайд...". Два беллетристических анархо-радикальных памфлета Барббры и Александра исподволь наводят на подозрение: если что-то еще в состоянии спасти забюрократизированный властью институций западный мир, то это любовное сообщество бесшабашных безумцев, прибегающее к экстравагантной и психотропной спайке сексуальности, политики и литературы. Наподобие сообщества Александра Бренера и Барбары Шурц, этих Бонни и Клайда, Микки и Мэлори современного искусства. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Но едва ли книги венских анархистов заслуживают аттестации в качестве приватно-камерных документов - дневниковая фактура здесь только выпячивает индивидуальную встроенность авторов в машинерию социального протеста. |
|
|
| Используемый Бренером инструментарий, все его экстремальные телесные эскапады, во-первых, срабатывают детекторами социального неблагополучия, взбаламученности, взвихренности и необузданности современного социального опыта. Во-вторых, нельзя игнорировать и терапевтическую функцию радикального телесного афронта Бренера против господствующего институционального порядка - в его акциях на единственно инфантильно-растительном уровне производится рецептура и инструктаж культурного выживания современного художника (культ урменша). |
|
|
|
|
|
| (Обе книги вкупе более всего напоминают взрывоопасный коктейль с чрезвычайно плотной степенью концентрации (компрессии) самых разношерстных ингредиентов, и языковых, и тематических и полистилистических). Уникальность этого утрированно фрондерского дневника в том, что он ведется не одиночкой, а паясничающим и кривляющимся коллективным персонажем, все интимно-приватное (вплоть до постельный простыней) делающим фетишами публично-фамильярного смакованья. В языковом тезаурусе этого персонажа оказались волею геополитических накладок интерполированы два социо-культурных опыта, в чем-то полярных, а в чем-то - подозрительно схожих: "Разные культурки взрастили нас и голосят за нашими спинами, как волчьи стаи, как шакальи полчища". С одной стороны, опыт Александра - шоковая эйфория от информационной вседоступности в момент распада советской империи и индивидуальной защиты от внедрения в постсоветское сознание "СМИ" (синдрома массовой индифферентности) десятилетием позже. С другой стороны, опыт Барбары - опыт пресыщенной депрессивной апатии от затоваривания европейского сознания переизбытком либеральных ценностей, делающихся скрытыми рычагами новой ("прозрачной", как ее называет Жак Деррида) репрессивности, и, кроме того, дисциплинирующий и дающий ориентиры опыт "ФСК" (феминистского строгого критицизма): "В то время я представляла из себя комбинацию из двух составляющих: депрессии и феминизма". Такой комбинированный русско-советско-европейский опыт коллективного персонажа обеих книг задает их культурный и социальный полиглотизм: так, в "Бздящих народах" трансляции внутренних монологов, реплик и речевок Барбары и Александра чередуются в пределах одного абзаца, а в "Ртутных палочках" композиционный принцип полифонии должен подчеркнуть вселенские амбиции их анархического демарша, адресацию их прямых обличительных сентенций и диагностик не только своей интеллектуальной клаке, но и всему калейдоскопу социальных слоев: "Стиль нашей книги - опупело-демократический, то есть во время ее писания мы пытались использовать все существующие диалекты и жаргоны - молодежный, непристойный, вульгарный, жлобский, псевдо-аристократический, глупый, философский, политический и т.п.". Разнокалиберная, иногда нарочито сумбурная мозаика задействованных в этих книгах социальных кодов речеповедения затрудняет даже для тренированного филологического глаза произвести жанровую аттестацию отдельных эпизодов. |
| . Другим опознавательным знаком полиметрии ассорти разнообразных цитат, аллюзий и отсылок к радикально-экстремистским литературным экспериментам |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Исполненных виртуозно, не на общеобяазтельном (фешенебельном) сейчас для всяких анархиствующих модников и сквотеров "последнем дыхании", но и одним росчерком "боевого пламени", нешуточной идиосинкразии и депрессивного отторжения от всего постиндустриального (арсенала) завлечения. |
|
|
|
| Акционистское телесное высказывание (формирующее "коммунальное тело" по образцу бахтинского карнавально-гротескного тела, искаженного и деформированного ) не нуждается подобно "жесту" соц-арта в подпорках и котурнах государственной символики с ее якобы оккультно-магическим статусом. Оно произведено изнутри пораженного вирусом беспамятства и безразличия социального организма, от лица его безымянного и среднестатистического представителя, брутально и наглядно доказывающего - все частицы этого социума взбесились и находятся в хаотической "войне всех против всех"", в повседневной "батрахомиомахии". Это высказывание трансперсональное и экзальтированное., произнесенное на единственно доступном языке - |
| Языковым "модулем" акционизма делается стихийное высказывание иерархически не структурированного социума, фрустрированного потерей национальной идентичности.. Это высказывание вырвалось из "недр" коллективного подсознания социума и затем сконденсировалось в аффектированный телесный жест. |
| Подобно тому, как репрезентируемая им современность несмотря на все его "компаративные" усилия остается антиисторией, так и сам этот герой - озлобленный и травмированный отторжением от коллективного тела неудачник, обращающий собственную неврастению в публичный и квазихудожественный экспонат - сам этот герой с его экстатичностью и волюнтаристской решимостью "оставить след" в чужой культуре, остается все таки "антигероем". Редукционистский пафос московского акционизма сводит имитируемого им среднестатистического человека "постсоветской толпы" на уровень ниже олигофрена, не способного совладать с афатически расстроенной речью, - на уровень зооморфного, не рефлексивного состояния. Такое состояние объявлено за "костяк" новой политической эры в художественной программе О. Кулика "Зоофрения" |
| Таким образом, культурным героем или, как уже говорилось, "антигероем" московского акционизма становится низведенное к животно-бессловесному началу человеческое тело, кривляющееся и конвульсивное, отражающее на себе диаграммы из силовых линий современной социальности |
| Тело художника-акциониста - одновременно инструмент и предмет изображения, а также прибор для скрупулезного считывания современности. Оно моделируется им подобно пустой поверхности, tabula rasa, экранирующей потоки фантазмов, производимых масс-медиа и виртуальной властью, с неуловимыми и повсеместно рассредоточенными источниками репрессивности. |
| Но инсценируемый акционистом телесный опыт криминальной социальности обнаруживает за собой иную, чем опыт героя боевика, и даже антитетичную ему функцию - выявление трагифарсовой деиерархизированности и деструктурированности окружающего его социума. |
| Московский акционизм с его реваншистскими и реставраторскими амбициями, эстетизацией жестокости и зрелищной театрализацией ее примитивных, натуралистических форм вполне может быть причислен к декадансным и даже в чем-то демоническим культурным стилям, типичным для a priori упадочнической эпохи fin-de-siecle. Но декадансное и демоническое в московском акционизме утоплено в идиосинкратическом и эстетически девальвированном языке повседневности . Собственно говоря, художники-акционисты в производимых ими "текстах" предлагают свою версию языка нынешней российской повседневности - языка, распавшегося на анонимные и аффектированные жесты, каждый из которых сигнализирует о более глубоком распаде репрезентируемой ими социальной структуры в целом. |
| Для этого социума, с точки зрения акционистов, единственной историко-мифологической реальностью выступает актуальная современность, из-за чрезмерной дискретности не способная выстроится в какой-либо исчислимый и культурно опосредованный временной ряд. К тому же, в акционистской модели персонажности рядовой гражданин этого социума претерпевает метаморфозу, обратную превращению булгаковского Шарика - из homo sapiens в зооморфную бестию, способную нечленораздельно артикулировать подсознательные коллективные желания с достаточно агрессивной подоплекой. Тело художника-акциониста, имитирующего политизированного звероподобного монстра, уподобляется полому экрану, на который проецируются фантазмы взрастившей его социальности. |
| По парадоксальной подмене qui pro quo самые непримиримые филиппики акционизма направлены не против часто фантомных властных институтов этого общества, толкающих человека на не сфокусированную и немотивированную жестокость, а против культурных институций в целом, главным образом европейских, на которых (а при этом еще обговаривается их авангардистская или, точнее, модернистская родословная) возлагается вина за растерянность и одичание российского социума. Приведем несколько высказываний Бренера: |
| манифестах Бренера сквозит заимствованный от футуристов пафос всеобщего уничтожения, и недаром образцами для подражания он называет дадаиста Артура Кравана, Антонена Арто и Ги Дебора, - самых радикальных авангардистских ниспровергателей традиционных метафизических и буржуазных ценностей. Но весь этот авангардистский жизнестроительный камуфляж нужен Бренеру, чтобы замаскировать главное: агрессивный и срывающийся на фальцет голос, звучащий в акциях Бренера (так сказать, его авторская маска) принадлежит не авангардистскому титану-одиночке, а рядовой сошке постсоветского общества, поднявшего хай и вой на западную систему распределения культурных благ по одной-единственной причине - из-за травмирующей его недопущенности к якобы демократической, т.е. предназначенной для всех, культурной "кормушке", оказавшейся захлопнутой перед ним из-за его собственного комплекса "несостоятельности". |
| Первоначально комплекс культурной несостоятельности утверждается акционистами в невозможности обладать своим, - например, приобретенным социально-культурным опытом, который должен принадлежать ему по праву законной собственности. Что продемонстрировал Бренер в акции "Свидание", когда его попытки соединиться с женой у памятника Пушкину (т.е. сакрализованному тотему русской культуры) окончились неудачей, о чем он оповестил публику криком "Ничего не получается!". |
| Потом комплекс собственной несостоятельности переносится на чужое и несостоятельной объявляется уже вся система репрезентации современной культуры. Поэтому миссией акционизма делается дискредитация (вплоть до натурального уничтожения) заведомо коммерческих и приспособленческих объектов буржуазного искусства. Один из взлетов артистической карьеры Бренера - разрушение на выставке "Интерпол" в Стокгольме инсталляции американского художника Венда Гу, сплетенной из поставляемых ему много месяцев волос шведских женщин. Сам Бренер на пресс-конференции мотивировал свой деструктивный жест "как бессознательное проявление одной из форм общественного сознания" , а Е. Деготь комментирует акцию Бренера как "чисто террористическую борьбу одиночки с репрезентацией как таковой" . В то же время акционист как enfant terrible возмущается, если третируемый им за несостоятельность западный интеллектуальный истеблишмент игнорирует его (как он в этом убежден) бесспорные эстетические новации, - тогда он принимается насильственно-эпатажными методами добиваться отказанного ему участия, как это инсценировал Кулик в Цюрихе - он кусал у порога посетителей, проходивших на выставку, куда он не был допущен. |
| С частных и актуальных форм культурной политики ярлык несостоятельности постепенно начинает навешиваться и проецироваться на далекие от сиюминутности культурные стили (например, Бренер пишет: "Короче говоря, формулирую: никакого авангарда не было" и далее уничижает авангард комбинацией ненормативной лексики с обсценной аллегорикой). Та же участь постигает и концептуализм: по мнению, акционистов его удачная и безболезненная аккомодация к западной системе престижных выставок и вернисажей обесценили его заслуги в деле интеллектуального сопротивления в семидесятые-восьмидесятые; концептуалисты по Бренеру - "Двурушники, которые ввергли русскую культуру в чудовищное прозябание" . |
| Кульминацией объявленного акционизмом "крестового похода" против несостоятельности современного искусства можно считать намеренно вандалистскую акцию Бренера в Стеделик-музее, Амстердам (1997), зеленой краской из пульверизатора нанесшего знак доллара на "Белый квадрат" К. Малевича. Акция это, поднявшая Бренера на пик европейской известности, возвела московский акционизм в разряд самостоятельных культурных стилей и послужила поводом для многочисленных искусствоведческих интерпретаций (например, Е. Деготь видит заслугу Бренера в том, что "он девальвировал уникальность, растворил героическую эмблематичность и попытался насильственно заполнить пустоту (не случайно Бренер выбрал "белого" Малевича) - чем бы то ни было" ). |
| Помимо этого, акция Бренера хранит в себе еще два смысловых обертона, один из сферы индивидуальной художественной политики, другой - из области социальной диагностики. Во-первых, Бренер выступил в роли наполовину камикадзе, наполовину луддита , саморазрушительно бросившегося ломать (точнее доламывать), репрезентативную, мессианско-апокалиптическую машинерию русского авангарда и особенно ее высоко(оплачиваемый) статус в западном искусстве. С другой стороны, бренеровская "тираномахия", восстание против занявшего свою почетную музейную нишу Малевича, становится наиболее иллюстративным примером акционистского ressantiment - попрания того, что уже имеет товарную стоимость, тем, что только пытается ее получить. Таким образом художник-акционист подмечает реваншистскую враждебность постсоветского социума, проявляемую на коллективно-фантазматическом уровне, к любым системам чужого успеха и преуспевания, будь то западным, или российским (недаром Бренер покусился именно на шедевр русского авангарда, а не европейского). |
|
|
 |
|