 |
 |
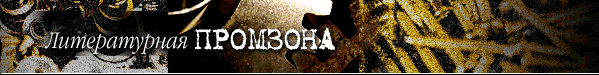 |
 |
 |
 |
Рефлексии |
Дмитрий Голынко - Вольфсон
НЕПРОЗРАЧНЫЕ КЛЕТКИ - ПРОЗРАЧНЫЕ НЕТКИ
(Парадигма "прозрачности" у Владимира Набокова)
Приглашение на карнавал
| Цинциннат Ц, магистральный персонаж романа "Приглашение на казнь" обвинен в страшнейшем из преступлений, "гносеологической гнусности, столь редкой и неудобосказуемой, что приходится пользоваться обиняками вроде: непроницаемость, непрозрачность, препона". За оное преступление он был приговорен к смертной казни, заключен в крепость, которую с легкой руки Фредерика Джеймисона и Бартона Джонсона можно окрестить "тюрьма языка" ("The Prison-House of Language"), где провел двадцать глав, то есть дней, в ожидании исполнения приговора. В финале он был торжественно обезглавлен на Интересной площади, после чего наконец-то достиг полной прозрачности, родственной с распыленной прозрачностью окружающего его текстуального (театрального) пространства. |
| Читателю предложена хитроумная диспозиция вопросов: что есть гносеологическая гнусность и почему она приравнена к страшнейшему из преступлений? в чем суть прозрачности и непрозрачности? в чем символический смысл обезглавливанья? На первый взгляд, "Приглашение на казнь" возводится в ранг модернистской антиутопии. Сюжетная схема и фабульная экспозиция романа строится по типу оппозиций между общественным и личным, своим и чужим, и т.п. В книге Александра Жолковского "Блуждающие сны" приведен реестр архисем популярного в 20-30-ые годы жанра антиутопии. Перечислив некоторые из них, мы увидим, что они служат лишь иллюзорными подпорками набоковского романного дискурса: 1) обязательное единомыслие, упразднение privacy, диктатура социального Сверх-Я; 2) расщепление личности, становящееся явным, когда у героя антиутопии начинаются искания; 3) обретение героем гармонического синтеза всех традиционно противоположных полюсов: Детскости и Взрослости, Разума и Чувства, Природы и Культуры, Истины и Красоты, Мужского и Женского, - все эти начала равно подавлены государством и потому совместно противостоят ему; 4) финальное поражение или обратная метаморфоза героя (Жолковский 1994:172). |
| Но вышеприведенные атрибуты антиутопического видения являются только чужеродным каркасом набоковского текста, - одежкой с чужого, модернистского, плеча. Если в модернистском срезе текста воспроизводится подчиненная коду семиотическая конструкция антиутопии, то в, скажем так, постмодернистском (или анаграмматическом в трактовке Жана Старобинского, Юлии Кристевой или Поля де Мана) конструкция рассыпается на множество асемантичных, цитатных и пародийных планов и кадров. |
| На свидание явилась вся семья Марфиньки со всей мебелью... Между тем все продолжала пребывать мебель, утварь, даже отдельные части стен. Сиял широкий зеркальный шкаф, явившийся со своим личным отражением (по всей видимости, из романа "Дар" - Д.Г.)(Набоков 1988:290). |
| Это описание - точь в точь компьютерная анимация - демонстрирует семиотическое фиаско всего повествования. Набоков методично копирует жанровый канон антиутопии, а затем тотчас взрывает его собственными текстуальными стратегиями. |
| Одним из клише, вошедших в моду при интерпретации романа, является безапелляционное утверждение, что Цинциннат - художник, заключенный во внутреннюю тюрьму тленного "Я". Духовное освобождение из тисков собственного сознания даруется ему творчеством, и, постепенно срывая покров за покровом, он разрушает и выдуманные стены мелодраматической темницы. В финале он окончательно порывает с миром пошлости и уходит туда, где стоят равные ему творцы и художники. Например, Дэбни Стюарт проделывает интроспекцию в набоковский текст романтических концептов "двоемирия" и "мира-как-театр". Стюарт утверждает, что Цинциннат сам является одновременно режиссером и жертвой в разыгрываемой им фарсовой драме. Сознание Цинцинната тождественно тюремной камере и служит ареной для этого мистериального маскарада, причем Цинциннат - либреттист и суфлер всех ролей в тексте. Трагедия Цинцинната в том, что он неверно распределяет роли и исполняет партию, ему не причитающуюся. Пафос романа в поиске постановщиком симметричного распределения ролей, в правильной аранжировке всех деталей и событий жизни, понятой как театрализованная буффонада сознания. В фейерверке сценических превращений волшебным помощником Цинцинната оказывается воображение (Стюарт 1978:71). Как только Цинциннат создаст упорядоченную композицию сценических фигур и декораций, то он сразу ускользнет из представления, взглянет на него извне. Причем, замечает Стюарт, нарратив - единственная лазейка для исчезновения с подмостков. Цинциннат ускользает из пьесы через нарратив, и автор в финале покидает роман, причем авторское обозрение романа равно обозрению пьесы, проделанному Цинциннатом (Стюарт 1978:81). |
| Таким образом, роман - обозреваемая автором извне театрализованная игра цинциннатова сознания, во всех нарративных актах занятого попытками самоидентификации с Другим (в романе таким Другим выступает социально-прагматическая роль художника). Стюарт предлагает свою версию "гносеологической гнусности": Цинциннат осужден за "зеркалопослушничество", за неумение и нежелание иметь дело с кривыми зеркалами. В 12 главе Цинциннату дозволено, точнее, навязано свидание с матерью, Цецилией Ц., тоже Ц.Ц., что заставляет заподозрить в ней его механическое удвоение, редупликацию, ловкую пародию на него. Во время свидания вроде бы ничем не мотивирован рассказ Цецилии Ц. о "нетках": "...такие штуки, назывались "нетки", - и к ним полагалось, значит, особое зеркало, мало что кривое - абсолютно искаженное, ничего нельзя понять, провалы, путаница, все скользит в глазах, но его кривизна была неспроста, а как раз так пригнана..." (Набоков 1988:310). Если нетку подносили к уродливому зеркалу, то бесформенная пестрядь преображалась в нем в стройный образ: в корабль, в цветок, в картину... |
| Цинциннат - рафинированный модернистский художник - отрицает кривые и искаженные зеркала, куражащиеся над понятием тождества и вместо сходств отражающих различия. Набоковские тексты представляются мне именно искаженными зеркалами, в которых проецируется и преломляется не эмпирическая реальность, даже не квази-реальная фактура искусства, а "нетки", или, как их иначе называет Цецилия Ц., "кошмарная каша" абсолютно Иного - оно в них приобретает отчетливые классические формы. Английский вариант слова "нетки" - "nonnons" дешифрует русский, пользуясь излюбленным термином Жака Деррида, "грамматизирует" его и представляет его внутреннюю форму как двойное отрицание, равную нулю тавтологию. Вадим Линецкий в скандальном и блистательном трактате-памфлете "Анти-Бахтин" заметил, что набоковские тексты пестрят "нулевыми героями вроде Г.Г., К.К., Мартын Эдельвейс (белый, прозрачный) и т.д. (даже Пнин видится ему лишь "оптическим обманом, порожденным игрой света на отражающихся поверхностях в этом стеклянном пространстве" (Линецкий 1994:39),- иначе говоря, нулевым героем. |
| Как правило, русские исследователи видят в мытарствах Цинцинната преодоление косной материальной оболочки и приобщение к потусторонности литературы через обретение творческого дара. Цинцинната по стойке смирно ставят в образцовый ряд таких "набоковских представителей" и истинных художников как Федор Годунов-Чердынцев или Себастьян Найт, отлучая от них, от их благородного и глянцевого лика лжедемиургов вроде Германа или Гумберта. Такое разделение объяснимо лишь этическими соображениями, иных причин для подобной дифференциации не видно, поскольку все эти персонажи создают солипсические воображаемые пространства, срежиссированные и разграфленные их собственным подсознанием. При таком раскладе их можно гуртом зачислить в разряд "лжедемиургов", если в набоковском гипериллюзорном пространстве вообще уместна апелляция к "истинности" или " ложности". Набоковские персонажи прикидываются "оригиналами" (во всех смыслах этого слова), но остаются только палимпсестами, на которые культурная традиция и игра дифференций наносят богатые " тематические узоры" и строят карточные домики симулякров. |
| Теория симулякров и симуляции, разработанная Жаном Бодрийяром, сводит на нет представление о трагической расколотости сознания Цинцинната на, говоря языком феноменологии, ноуменальное (высшая реальность искусства) и феноменальное (бессмысленный, безобразный мир темницы и враждебного Цинциннату социума). Тогда спорной окажется и интерпретация известного комментатора набоковских текстов Александра Долинина, трактующего сюжет романа как отторжение художника от конечной внешней действительности и обретение им экстатического слияния с бесконечностью творчества: |
| увиденный в романе лишь через восприятие несчастного страдающего героя, отраженный в кривом зеркале его расколотого сознания, он (мир) кажется мнимостью, бессмысленным, грубым, безобразным фарсом, разыгрываемым на театральных подмостках чувствительной душой поэта и мечтателя. |
| и далее: |
| Таким образом город, тюрьма, камера, тело, - все оболочки, опутывающие Ц.Ц.. все круги ада, через которые бредет его душа, - превращаются у Набокова в метафоры внешнего по отношению к "Я" художника сугубо феноменального мира, а взыскуемая им потустороннее там - общезначимым символом "второй реальности", создаваемой лишь в искусстве (Долинин 1989:466). |
| Подобное дуальное построение рассыпается , если мы заметим, что город, тюрьма, камера, тело оборачиваются не метафорами внешнего феноменального мира, а симулякрами выдуманного мира, и тем самым уже причисляются к потустороннему "там", к искусству. Непонятно, зачем душе Цинцинната взыскивать "вторую реальность искусства", если само искусство является для него тюрьмой, воздвигнутой по проекту его сознания. Кстати, душа Цинцинната вовсе не бредет, а, словно бабочка, пришпилена к издевательской этикетке, где ему раз навсегда предопределен статус художника. Цинциннат существует в спроектированном его собственным подсознанием мире, приговорившем своего создателя к почетной казни и единственный способ для Цинцинната ускользнуть из него - признать свою неоднородность с произведенным им миром. |
| Если Долинин подверстывает свою интерпретацию под "тематический узор" европейской метафизики, то в "Текстах-матрешках Владимира Набокова" Сергея Давыдова роман прочитывается как гностическая эпифания. При этом "двоемирие" профанного и культурного, которое якобы репрезентирует Цинциннат, не нейтрализуется, а усугубляется добавлением гностического противопоставления "гилического" (земного) и "пневматического" (духовного). На поверку эти историко-культурные сложности и аллюзии задействованы для того, чтобы еще раз продемонстрировать: сознание Цинцинната художника совершает восхождение от мирского к небесному, от гилического к пневматическому. Центральную оппозицию романа создает контраст "пневматического" и "гилического": "тюрьма - материализованная метафора страха (перед смертью), тюремщики - аллегорические карнавальные персонификации того же страха" (Давыдов 1982:135) и далее: "Подобно аллегории смерти, играющей в шахматы с человеком, Цинциннат в тринадцатой главе тоже играет со своим палачом в шахматы и, кстати, выигрывает. Но только к концу романа Цинциннат доходит до окончательного, всезавершающего познания смерти, он разоблачает карнавальную мистерию смерти и открывает истинную, гностическую тайну о ней" (Давыдов 1982:136). |
| Пафос гностического жизнестроительства - в совершении ряда "суверенных действий" (термин Батая), то есть поступков, направленных на деструкцию и разрушение своего тела как гаранта наличия смысла и его источника. Гностики умерщвляли плоть либо крайним развратом, либо крайним воздержанием, чтобы скинув все материальные и психические аватары, достичь абсолютной негации и слиться с Плеромой - Полнотой и одновременно беспредельной Пустотой, Ничто. Поведение Цинцинната и представляет последовательность "суверенных действий": Ц. разрывает пакет с возможным помилованием, Ц. следует вслед за Эммочкой обратно в тюрьму, Ц. сам покорно кладет голову на плаху... |
| Но Давыдов упустил, что гностицизм построен на триадах и описывает духовное "прозрение" как последовательное прохождение трех ступеней: гилического, психического, пневматического. Психологического уровня достигает практически любой гностик, искусно разрушивший свою телесную дистанцию, но приобщиться пневматическому дано избранным единицам, причем эта избранность ничем не мотивирована - ни глубиной самопознания, ни степенью самодеструкции. |
| Цинциннат - автор и проектировщик окружающего его тюремного фарса, и он находится с ним в отношениях самоидентификации и референции. Тем самым он центрирован и прикован к психическому уровню, исход в пневматическое (децентрированное) ему заказан. На пневматическом уровне правит бал иной, децентрированный автор, и он сквозит в исследовании Давыдова, хотя тот и не отличает его от центрированного автора - Цинцинната: |
| роль автора в этом мире-романе будет роль демиурга, архона, и, следовательно, тюрьма, мертвый дом, которые он в романе создал - книга "Приглашение на казнь" сама... По отношению к роману автор находится "вне", за рамками условного "физического" времени и пространства книги, в котором живут персонажи, и как таковой он является метафизическим существом извне (Давыдов 1982:177). |
| Если автор депортирован из текста и изгнан вовне, за рамки условного физического времени и пространства книги, то из-под его контроля уходят все текстуальные стратегии и приемы письма. В набоковском атеологическом проекте метафизический и трансцендентный автор, абстрагированный от повествования, находящийся извне, выглядит явным абсурдом и нонсенсом; он лишен зеленой аллеи в Раю. |
| Гностицизм как продукт христиано-эллинистической культуры кажется несколько инородным по отношению к набоковским романам. Медиатора можно обнаружить в пре-текстах романа, а именно, в "Замке" и "Процессе" Кафки, где иудео-христианский синтез в притчевой форме выступает лейтмотивом повествования. Уверения Набокова о том, что он до написания романа не был знаком с фантазмами Кафки (Набоков 1973:67), мне представляются сознательными уловками и попытками запутать читателя и обвести его вокруг пальца. Но даже если вправду сходства между романами Кафки и Набокова случайны и непреднамеренны, то, в любом случае, эти тексты выстраиваются в один телеологический ряд, где якобы случайные совпадения и параллели оказываются перепричинены механизмом интертекстуальности. |
| Если довериться гипотезе, что в романе акцент поставлен на мировосприятии Цинцинната, а тюрьма и инквизиторы - только метафоры его обмирщенного внутреннего "Я", от которого он стремится избавиться, приобщившись к сонму творцов, то мы упремся в интерпретационный тупик. Цинциннат непрозрачен по условию игры, допустим, его непрозрачное "Я" тождественно тюрьме и изоморфно нарративу, - тогда следует, что сам роман непрозрачен, герметичен. Но уже в финале происходит полное опрозрачивание нарративного пространства: |
| Зрители были совсем, совсем прозрачные и уже никуда не годились, и все подавались куда-то, шарахаясь, - только задние нарисованные ряды оставались на месте... Все распадалось. Все падало... (Набоков 1988:360 ) |
| При таком прочтении нам вслед за Сергеем Давыдовым придется признать непрозрачность и, следовательно, гносеологическую гнусность самого набоковского текста, - как ни подкати к этой цитадели, с флангов ли структурной семантики, семиотики или герменевтики, она все равно останется досадно равнодушной и непроницаемой. |
| Я предлагаю иную версию прочтения, которая, возможно, позволит пробить брешь в этой крепости и взять ее если не приступом, то обходными маневрами (сделать ход оппозицией прозрачность/непрозрачность). Цинциннат мне представляется тем внутренним имплантированным автором, который регламентирует текст как систему оппозиций и тождеств. Цинциннат создает романный мир-как-тюрьму-и-театр по матрице своего воображения и как проекцию подсознания, подгоняя все события и факты под матрикул истинности, аутентичности, демиургизма, автореферентности, миметизма (весь джентльменский набор модернизма). Подсознание Цинцинната изначально раздроблено, но оно легитимировано жестким и тотальным контролем Сверх-Я и, в конечном итоге, лимитировано им - оно не способно дробиться до бесконечности. Оттого-то все предметы, увиденные/произведенные Цинциннатом оборачиваются не прозрачными кристаллическими гранями, а оказываются непоправимо клетчатыми (даже платье Эммочки), то есть экранируют раздробленное подсознание Героя/Автора, отображая его как тюремную решетку. |
| Герой /Автор сам себя заключает в темницу своего центрированного подсознания, закладывая краеугольным камнем столь типичную для модернистского художника садомазохистскую субверсию (безотчетное желание пострадать и принять мученический венец). Амбивалентность палача и жертвы, проходящая красной нитью через романный дискурс, проявлена в том, что и Цинциннат, и мсье Пьер - сценические двойники, разыгрывающие обертона одной и той же роли, бенефис которой кроется в разрушении собственной телесности. В финале, по всей видимости, Цецилия Ц. несет на руках маленького мсье Пьера как куколку, из которой уже выпорхнула бабочка - Цинциннат. Актер мсье Пьер, исполнитель партии палача, чудаковатая авторская маска, первым образцово показательно восходит на эшафот: "Мсье Пьер пал на плаху. В публике прошел гул", тем самым демонстрируя, что "в каком-то смысле актер, оратор или палач работают в режиме деконструкции собственной телесности" (Ямпольский 1993:60). |
| В набоковском романе происходит самодеструкция телесности внутреннего модернистского автора, потеря им всех непроницаемых оболочек и распад на бесконечное множество дублеров - авторских масок. Модернистский автор у Набокова, как правило, занимает одну структурную позицию - центрального персонажа, часто нарратора. Насквозь пародийный Цинциннат так и просится в паноптикум персонажей европейского модернизма, в той или иной мере представляющих из себя " человека без свойств" (Музиль, Беккет, Фриш). Покорность Цинцинната тюремщикам, его пассивность, когда он узнает об изменах жены, - не только следствие бесхарактерности, но и результат принадлежности к нескольким вероятностным, возможным мирам, где он проявлен только латентно, бескачественно. В поэтике модернизма, как замечает Юрий Степанов "возможный мир, "иное состояние" (der andere Zustand) - вот мир или, точнее, миры романа, и им, естественно, соответствует герой, не обладающий раз навсегда закрепленными за ним свойствами одного данного, реального мира" (Степанов 1985:260). Кроме того, Автор-Цинциннат пародирует пражского иллюзиониста и мистика Франца Кафку, и его самоидентификацию с текстом путем удвоения себя в нем и маркирования главного персонажа К.К.(сублимированное авторское "Я"). Как и набоковский Ц.Ц., кафкианский К.К. пытается в тексте отождествиться со своим другим, удваиваясь в зеркальной симметрии идентичных К ("Я"). |
| Модернистский автор Цинциннат также постулирует своего Другого, причем этот Другой манифестируется как страх смерти и одновременно тяга к смерти самого Цинцинната: |
| - Ну что ж, - сказал Цинциннат, - пожалуйста, пожалуйста... Я все равно бессилен. (Другой Цинциннат, поменьше, плакал, свернувшись калачиком) (Набоков 1988:272) |
| Цинциннат встал, разбежался и - головой об стенку, но настоящий Цинциннат сидел в халате за столом и глядел на стену. (Набоков 1988:296) |
| Торжественная и церемониальная казнь окончательно разделяет Цинцинната и его Другого, причем, как отмечает Елен Сиксус, в феминистском критицизме обезглавливание (beheading) - аналог символической кастрации (Сиксус 1994:38), то есть ускользание из-под власти художественного кода. Один Цинциннат ритуально принесен в жертву молоху модернизма, символически казнив сам себя, а Другой Цинциннат "с неиспытанной дотоле ясностью, сперва даже болезненной по внезапности своего наплыва, но потом преисполнившей весельем все его существо, - подумал: зачем я так, отчего так лежу? - и, задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся" (Набоков 1988:359 ). |
| Неизбежность физической смерти непроницаемого модернистского автора сквозит уже в ключевом эпизоде романа: Цинциннат читает взятый из тюремной библиотеки вымышленный роман "Quercus". "Героем романа был дуб. Роман был биографией дуба, да и в само название романа вынесено латинское наименование "Дуба". Этот розыгрыш с никогда не существовавшей книгой представляет собой злоязычную пародию на многотомную реалистическую или модернистскую эпопею. "Цинциннат прочитал из романа треть, около тысячи страниц, затем отложил". Заголовок романа заставляет предполагать его паратекстуальные связи с "Войной и миром" Льва Толстого (сразу вспоминается знаменитый эпизод с дубом). Фраза: "Приводился, между прочим, подробный список всех вензелей на коре с их толкованиями" отсылает к подробному экскурсу в генеалогическое древо Германтов на балу у герцогини Германтской (третий том " В поисках утраченного времени" Марселя Пруста). Когда читаешь, что "немало внимания уделялось музыке вод, палитре зорь и поведению погоды", как не вспомнить прорисованные в "Под сенью девушек в цвету" импрессионистские бальбекские пейзажи, словно выполненные кистью Эльстира или Моне. Возможно, "в полторы страницы параграф, в котором все слова начинались на "П"", - шутливый и пародийный памятник Прусту и его поэтике. Высмеивает Набоков и теорию внеположности автора своему тексту: карикатурно изображено, как "автор..сидит со своим аппаратом где-то в вышних ветвях Quercus'а, высматривая и ловя добычу". |
| И за сорок лет до появления статьи Барта "Смерть Автора" Набоков предрекает смерть корпускулярного автора, продуцирующего текст как систему классификации и таксономий: |
| ...начинал представлять себе как автор, человек еще молодой, живущий, говорят, на острове в Северном, что ли, море, сам будет умирать, - и это было как-то смешно - что вот когда-нибудь непременно умрет автор, - а смешно было потому, что единственно тут настоящим, реальным несомненно была всего лишь смерть, - неизбежность физической смерти автора (Набоков 1988: 303). |
| Лейтмотив смерти автора вдруг возникает в "Лолите", словно ослышка или оговорка, пригрезившаяся во сне: "По другой стороне улицы гараж сквозь сон говорил "Автора Убили" (на самом деле - "Автомобили") (Набоков 1989:320), а в "Парижской поэме" исчезновение Автора прямо связано с отсутствием режиссуры и упорядоченности в театрализованной вселенной: |
|
|
| Смерть еще далека (послезавтра я |
| все додумаю), но иногда |
| сердцу хочется "Автора, Автора". |
| В зале автора нет, господа. |
| |
|
|
|
| Апология прозрачности |
|
| Только констатировав кончину непроницаемого модернистского автора мы замечаем, что уже давно вступил в права второй, а-модернистский автор. Тот, который конституирует текст как игру дифференций, культивируя и обуславливая зазор и различие между Текстом ("Я") и его Иным. Тот, который принадлежит тексту и в то же время остается абсолютно иным по отношению к нему. |
| Я предлагаю окрестить его "прозрачный автор". Предпосылкой для введения этого термина мне послужил роман Константина Вагинова "Козлиная песнь", являющийся виртуальным претекстом романов Набокова. Первое его издание в ленинградском изд-ве "Прибой" едва ли было доступно Набокову, по крайней мере, свидетельств о том, что он знакомился с этой книгой, не сохранилось (равно как и об обратном). Как и в романах Набокова, в петербургских вариациях Вагинова фигура автора становится только металитературным приемом, самодовлеющей фикцией, гротескной тенью. Романы Вагинова - архитектонически безупречные лаборатории, где проводятся эксперименты над модернизмом и над соподчиненностью автора и выдуманных им героев. Голоса персонажей звучат наравне с прямым авторским высказыванием, иногда и заглушают его: этим достигается и театральность действия, и призрачность сюжетной линии. Так, в "Трудах и днях Свистонова" писатель Свистонов срисовывает персонажей своей книги с друзей и знакомых и, в результате беспристрастного копирования натурщиков, превращает их из людей в литературные марионетки и сам оказывается в разреженном пространстве своего произведения, сам становится только литературным героем. Фрагмент из "Козлиной песни", приводимый мной ниже, Набокову был неизвестен, поскольку его впервые опубликовал Вл. Эрль в Журнале "Транспонанс" в 1984 году. Этот отрывок, озаглавленный "Второе послесловие", был напечатан по автографу Вагинова, сохранившемуся на авторском экземпляре первого издания в библиотеке его жены. В нем Вагинов впервые выводит на сцену двух авторов, прозрачного и непрозрачного, и показывает их взаимообусловленность. |
| В первом абзаце непрозрачный, центрированный автор зафиксирован в пространственно-определенном антураже своей комнаты: "Я лежу в постели в комнате, выходящей ротондой на улицу...") и заданы координаты его творческого мира: "У дивана, на полу и на стульях, и на столе лежат всякие листки...". Но во втором абзаце единый мир катастрофически распадается, пространственная детерминация оборачивается вереницей метаморфоз, а бывший непрозрачный автор теряет фиксацию и точку опоры, становясь опрозраченным и неуловимым: " Всматриваюсь в листы: это совсем не листы, это крышки от папиросных коробок, это вырванные листки из записных книжек, это обложки книг, все они покрыты моим почерком. Я вижу, они увеличиваются в объеме, становятся прозрачными, растворяются в воздухе, и нет комнаты, в которой я лежу". Исчезновение рукописи сценарно предшествует исчезновению автора. Произведение, становясь прозрачным, увлекает за собой автора, его комнату, его "Я" в иллюзорное небытие. Двуединство основных протагонистов (прозрачного и непрозрачного авторов) выступает на первый план в третьем, ключевом абзаце: "и по блестящей траве, следуя за появляющимися бабочками мы направились к башне. Тогда я не был Тептелкиным, неизвестным поэтом, философом, Костей Ротиковым, Мишей Котиковым, тогда я был одним лицом, целым и неделимым. Тогда я еще не распался на отдельных людей, и тогда страшный свет я чувствовал в себе, и, соответственно, не мы, я один шел по всем этим дорогам, но затем произошло неожиданное дробление" (Вагинов 1989:509). |
| В этом абзаце Вагинов диагностировал раздвоение внутреннего автора на Автора/Героя/Другого и на прозрачное Иное "Я", раздробленное на отдельных людей и обозначенное в тексте как "мы", множественность. Игру дифференций, ответственность за которую несет прозрачный Автор (текстуальное Иное), Вагинов сравнивает с огромным ничто, с пустотой, возникшей бы, если изгнать автора в мир, потусторонний его книге: "Но вышел ли я окончательно из книги, освободился ли от моих героев, изгнал ли я их в мир, потусторонний по отношению ко мне, что станет со мной, если я действительно изгоню; может быть, появится пустота, огромное ничто, и в эту пустоту бросятся другие существа, не менее печальные, и в ней поселятся" (Вагинов 1989:509). |
| Каково же амплуа прозрачного автора или Иного в тексте? В первую очередь он исполняет роль "самодеструктивного различия или "самосознающей фикции", для которой релевантна ситуация собственного создания и, соответственно, само время дискурса" (Долинин 1994:305). Кроме того, внутри текста он может предстать в имидже читателя/сверхчитателя и занять по отношению к тексту должность хранителя и систематизатора культурного архива или лично отождествиться с культурным тезаурусом - и шире - традицией или интертекстом. |
| У Набокова традиция образует шарнирный каркас и декорационный фон повествования, иногда выступая в бурлескных и мультипликационных образах, вроде тюремщиков Ромы и Роди (Родион Романович Раскольников?) или мягких кукол для школьниц, - Цинциннат шьет эти куклы в мастерской игрушек, куда он был определен по причине маленького роста: |
| Работая в мастерской, он долго бился над затейливыми пустяками, занимался изготовлением мягких кукол для школьниц, - тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький, в зипуне, и множество других, например: застегнутый на все пуговки Добролюбов в очках без стекол. искусственно пристрастясь к этому мифическому девятнадцатому веку, Цинциннат уже готов был совсем углубиться в туманы древности и в них найти подложный приют. (Набоков 1988:249) |
| Исполняя роль традиции, прозрачный автор насмешливо и издевательски растасовывает перед читателем клише и стереотипы прочтения русской классики, провоцируя его рассматривать текст как "подложный приют" для обманчивых ассоциаций и коннотаций. |
| Прозрачный автор уже в самой номинации персонажей фамильярничает с традицией и проказничает над ней. Так Долинин отмечает, что имена практически всех персонажей заимствованы из мировой классики, а иногда отсылают сразу к нескольким источникам: |
| Юная Эммочка - тезка героини Флобера ("Мадам Бовари"), мсье Пьер - героя "Войны и мира", хотя исходящий от него омерзительный запах напоминает и о гоголевском Петрушке. По-видимому, директор тюрьмы Родриг вкупе с лермонтовскими реминисценциями должен вызвать ассоциацию с романтической поэмой, его двойник-оборотень, бородатый Родион (Родя) - с Достоевским, адвокат Роман Виссарионович - не только с "усатым диктатором", но и с русской критической традицией, восходящей к "неистовому Виссариону", распутная жена героя Марфинька - с "Обрывом" Гончарова, а его мать, акушерка, живущая в поселке Докторском - с Чеховым (Долинин 1989:446). |
| Перечислив некоторые пре-тексты "Приглашения на казнь", как из русской литературы, так и из мировой: стихотворение Шарля Бодлера "Приглашение к путешествию"; его же сонет "На картину "Тассо в темнице" Эжена Делакруа"; элегию Константина Батюшкова "Умирающий Тасс"; поэму Байрона "Шильонский узник" и т.д., - мы заметим, что прозрачный автор связывает пре-тексты воедино, образуя из них пародию или пастиш. Он превращает реальность текста из материальной в виртуальную, обуславливая интерактивность вкрапленных друг в друга "текстов-матрешек". |
| Прозрачность текста, автора и т.д. вовсе не имманентное свойство постмодернизма. Грех модернизма в том, что он авторитарно создает текст по принципу миметизма, симметрии и оригинальности, и настаивает на его истинности, то есть непрозрачности, завершенности и абсолютизме. Набоков был лично задет господством модернизма, и романы Сирина подобны стратегическим и хирургическим операциям по его преодолению. Под скальпелем мастера внутренний автор распадается на пародийного модернистского автора, безуспешно пытающегося центрировать текст и навязать ему систему тождеств и оппозиций, и на децентрированного (а-модернистского), конституирующего текст как сеть различий между "Я" и абсолютно Иным. Этот автор уже давно проявлялся в тексте: его коронный выход состоялся в знаменитой сцене разоблачения Цинцинната: |
| Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух (Набоков 1988:252). |
| По совместительству этот прозрачный автор еще и работник "сцены" романа, он подбадривает персонажей из суфлерской будки, иногда приподнимая "кулису воздуха", чтобы туда мог на минуту проскользнуть и привести в порядок свой грим и бутафорию Цинциннат, автор непрозрачный: |
| Казалось, что вот, в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры, Цинциннат так ступит, что естественно и без усилия проскользнет за кулису воздуха, в какую-то воздушную световую щель, - уйдет туда с той же непринужденной гладкостью, с какой передвигается по всем предметам и вдруг уходит как бы за воздух, в другую глубину... (Набоков 1988:302) |
| В другой глубине прозрачный автор, подобно гераклитовскому младенцу сцепляет бирюльки анаграмм и ведает комбинаторикой смысла, его распылением и дополнением. А на кулисе воздуха, на модернистском уровне, непрозрачный автор (Цинциннат) вырисовывает орнаменты симметрий и тождеств. |
|
| Аллегория: по эту сторону принципа удовольствия |
|
| В 1964 году Жан Старобински опубликовал в "Mercure de france" (Fevrier,1964) статью "Анаграммы", где изложил содержание новонайденных тетрадей Фердинанда да Соссюра с подготовительными материалами к "Курсу общей лингвистики". Эта публикация, как и вышедшая семью годами позже книга Старобински "Слова под словами: анаграммы Фердинанда де Соссюра", сразу привлекла внимание Юлии Кристевой и группы (пост)структуралистов "Тель Кель". Поль де Ман так разъясняет принцип анаграммирования: |
| Соссюровское убеждение или сильное подозрение, что структурным принципом латинской поэзии является кодированное распыление (или рассеяние) неназванного слова или имени собственного по стихам, вело к замещению референциального чтения процессом формального комбинирования...Cам Соссюр оставил свои изыскания к тому времени, как начал читать лекции, составившие впоследствии "Курс общей лингвистики". Потенциальная драма этой самой келейной и самой тихой из революций (включая сюда ее предполагаемую отмену самим ее творцом, как если бы Колумб захотел оставить открытие Нового света своей маленькой личной тайной) приобрела для современных теоретиков известный мифологический ореол.(Де Ман 1993:36) |
| Соссюр выделяет различные типы анаграмм: анафонию, гипограмму, логограмму и параграмму. У Набокова встречаются все виды анаграмм, а иногда их многоярусные сочетания: число их безгранично, ведь анаграммы имеют обыкновение репродуцировать себя и свой смысл до бесконечности. |
| Упомянем только некоторые из них: |
| ГИПОГРАММА. У Соссюра гипограмма "подчеркивает имя, слово, пытаясь повторить его слоги, и тем дает этому слову дополнительный, искусственный способ существования, который, если можно так сказать, прибавляется в изначальному способу существования слова". В этом своем значении слово hypographein оказывается близко стоящим к слову prosopon ( "маска", "лицо"). Гипограмма сближается с прозопопеей, тропом обращения. Все это действительно совместимо с соссюровским пониманием "гипограммы", но лишь при условии, что мы опять таки допускаем устойчивое существование изначального лица, которое может быть украшено, обведено, подчеркнуто или дополнено гипограммой. Но prosopon-poiein означает "давать лицо", и ,следовательно, предполагает, что изначальное лицо может отсутствовать.(Де Ман 1993:44) Гипограмма(субтекст или, лучше, инфратекст) позволяет Соссюру вновь акцентировать единство слова, выступающего в качестве ключа.(Де Ман 1993:37) |
| Англоязычные романы Набокова испещрены такими гипограммами. Конгломераты смыслов представляют собой имена главных двойников-соблазнителей Лолиты. В английском варианте Humbert Humbert произносится как Хамберт Хамберт, что создает новые оттенки значения: 1) шекспировский Гамлет; 2) русский "хам"; 3)англ.hummingbird - колибри; hummingbird moth - бражник, сумеречная бабочка; 5)humbug - обман; Сlar Quilty (Клер Куильти) раскладывается на лат.clarus - известный, светлый, очевидный, и на англ. guilty(вина), фр. qui(кто), il(он), ill(остров), cul(зад), etc. (Долинин 1991:365) |
| Повсюду Набоков разбрасывает знаки авторского присутствия, гипограммы своего имени. Имя второстепенного персонажа "Лолиты" Вивиан Дамор-Блок (Vivian Darkbloom) - точная анаграмма имени Владимир Набоков. В "Transparent Things" одна из гипограмм Автора - господин R (перевернутое русское Я). Господин R наделен реальными чертами самого Набокова: живет в Швейцарии и Франции, блестящий стилист на чужом для него английском. Он оспаривает у Набокова право на авторство "Лолиты: в его романе никто не отвечает на звонок - на звонок дважды никто не ответил в "Лолите". В первый раз когда Г.Г. навестил повзрослевшую Лолиту, во второй - когда он приехал убивать К.К. Но господин R одновременно и персонаж "Лолиты", папочка Гумберт - он женится на взрослой женщине, чтобы завладеть ее малолетней дочкой. В романе господина R "Транс-ля-тиции" мелькает проходной персонаж по имени Адам von Либриков. Это анаграмма Владимира Набокова, то есть сам Набоков - третьестепенный персонаж в романа своего персонажа. Кроме того, Адам von Либриков калькируется на русский как Адам Книжник (liber - лат. книга), модификация первочитателя или риффатеровского сверхчитателя, обладатель самой многобайтной из памятей - культурной памятью. |
| Таким образом, гипограмма - это маркер авторского присутствия, обводящий жирным штрихом границы (marges) того пробела (blanc) текста, который в логоцентрическом дискурсе назывался Автором. |
| ПАРАГРАММА - акт разрушения письма иным письмом, акт самодеструкции письма. Параграмматическая сеть - нелинеарная модель, организованная в виде таблицы, где каждый элемент функционирует как движущаяся "грамма", которая скорее порождает, чем выражает смысл. Великолепным образчиком параграммы является фраза : "Mali e trano t amesti...", пропетая братом Марфиньки на псевдоитальянском языке. Георгий Барабтало предлагает рассматривать эту бессмысленную фразу на воляпюке как русскоязычную анаграмму и дает ее расшифровку: "Смерть мила - это тайна". Долинин предлагает параллельное решение: "Там есть и роман, и Лета" и далее пишет: |
| Скорее эту фразу следует рассматривать как своего рода алфавит романа, из которого легко выделяются ключевые слова-мотивы на разных языках, скажем, русские "там", "театр", "мнимость", "смерть", "материя"... (Долинин 1989:510). |
| В параграмму транспонируют и такие обширные "музыкальные фразы" как список класса из "Лолиты" или список книг из библиотеки Себастяна Найта ( оба этих списка - коллекция основных набоковских тем, мотивов и аллюзий). В партитуре "Списка класса" встречаются и Миранда из шекспировской "Бури", и Дункан - убитый король из "Макбета", Антоний и Виола из "Двенадцатой ночи", Эмиль Розато - из "Эмиля" Руссо, Люцинда - из "Люцинды" Фридриха Шлегеля (где есть эпизод совращения маленькой девочки), Маргарита - из "Фауста" Гете, Луиза Виндмюллер на самом деле, Луиза Миллер из драмы Шиллера "Коварство и любовь", - добавочное определение "винд"(ветряной) водит дон-кихотовский мотив битвы с ветряными мельницами. (Долинин 1991:366) |
| Анаграмматический уровень, где репрезентируется прозрачный, а-модернистксий автор, позволяет любой сложности словесное озорство, любой масти каламбур, требуется только филигранная отделка. Набоков виртуозно генерирует сочетания различных видов анаграмм (в текстах они могут называться шарадами или крестословицами). Одна из таких шарад уличает Набокова в скрупулезном изучении трудов поносимого им венского мистика шарлатана доктора Фрейда, по крайней мере, его самого радикального труда "По ту сторону принципа удовольствия". В этой работе Фрейд постулировал наличие тяги к смерти, наблюдая за игрой своего внука Эрнеста. Когда мать Эрнеста уходила, ребенок отбрасывал от себя катушку ниток с криком fort(прочь), а затем радостно притягивал к себе с восклицанием da(тут). Фрейд заметил, что первая стадия игры повторяется чаще второй и вывел из детской игры закономерность fort/da/fort, конституирующую человеческую волю к небытию. Это наблюдение было тонко и затейливо инкорпорировано Набоковым в тюремные записки Цинцинната. Фраза Цинцинната - "Тупое "тут", подпертое и запертое четою "твердо"" - копирует фрейдовскую формулу fort/da/fort, поскольку немецкое fort(прочь) графически соответствует французскому "твердо". Здесь обыгрывается еще одно значение "твердо" как буквы старого русского алфавита. Между двумя бравурными французскими "твердо" и заперто одно тупое немецкое "тут". |
| И дело не только в том, что Набоков предпочитал французский немецкому, и - возможно - обоим русский; дело в том, что в этой фразе анаграммирована тяга Цинцинната к смерти, к распылению - текст романа построен как аллегория тяги к Танатосу. Тупое "тут", символизирующее принцип удовольствия и власть кода или Эроса, предстает Цинциннату "как темная тюрьма, в которую заключен неуемно воющий ужас". От проклятого "тут" Цинциннат стремится к блаженному "там", в потустороннее, и верит, что "там" существует: "он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия". |
| Но, увы, существование образца или оригинала - только генеральная иллюзия Цинцинната, его гносеологическая гнусность; ведь вместо образца наличествуют только мириады до бесконечности репродуцируемых копий, которые, как заметил Вальтер Беньямин, утратили свою ауру истинности и аутентичности. Набоковские романы напоминают камеру-обскуру или калейдоскоп постоянно изменчивых копий (симулякров) с нечетко прорисованным фоном. Вадим Линецкий отмечает, что в "Приглашении на казнь" "лишенные идентификации персонажи вовлечены в риторический маскарад, потусторонний требованиям нарративной логики хронотопа" (Линецкий 1994:40). Нам остается только добавить, что маскарадная потусторонность у Набокова присутствует не "по ту сторону" нарратива, а здесь-и-теперь, в самой пресловутой нарративной логике, подрывая ее изнутри. Загнанная в угол нарратива, потусторонность дискредитируется и понижается в чин одного из бесчисленных симулякров. |
| Таким образом, один из внутренних авторов, прозрачный Автор, присваивает себе функции традиции, интертекстуальной связи, анаграмматической игры и т.п. Наличие в тексте нескольких внутренних авторов, обуславливающих децентрацию и десимволизацию нарративного пространства, превращает текст в аллегорию. То, что произведения Сирина аллегоричны, а не символичны, отметил еще П. Бицилли в статье "Возрождение аллегории" (Бицилли 1936). |
| Особенности аллегории и ее отличия от символа неоднократно подвергались ревизии и переоценке: Вальтер Беньямин в книге "Немецкая трагическая драма" увидел эмблему аллегории в исторических руинах, а в работе Грэга Оуэнса "Аллегорический импульс: к теории постмодерна" аллегория признана лидирующим тропом в постмодернистских практиках: |
| Аллегорическая образность - это присвоенная образность. Аллегорист не производит образы, но конфискует их. В его руках образ становится Иным (allos - Иное, agoreuei - говорить). Он не восстанавливает первоначальное значение, которое было утрачено или искажено: аллегория - не Герменевтика. Скорее он добавляет иное значение к образу. Аллегорическое значение дополняет образное: аллегория - это дополнение (supplement) (Оуэнс 1991:205). |
| Образец деконструктивистского понимания Аллегории представлен в книге Поль де Мана "Аллегории чтения". В эссе о Прусте он определяет Чтение как "бесконечный компонент письма. Аллегория чтения повествует о невозможности прочтения. Прустовская практика письма основана на невозможности читать Чтение. В его романах все обозначает нечто иное тому, что оно репрезентирует, будь это любовь, сознание, политика, искусство, содомия или гастрономия - всегда наличествует иное тому, что сказано. Нетрудно показать, что этим иным и будет Чтение" (Де Ман 1979:111). Поль де Ман полагает, что "аллегории всегда являются аллегориями метафор и, таким образом, аллегория невозможности прочтения тоже может быть прочитана как метафора" (Де Ман 1979:205). Набоковские романы - именно такие "аллегории Чтения" и показывают невозможность центрированного - однозначного или амбивалентного - прочтения. |
| Набоковский текст не идеографичен, он разворачивается только в исполнении, в о-звучении, и в этом он подобен кантам "Divina Commedia", тоже, согласно Мандельштаму, существующим только в исполнении, в порыве. В том-то и секрет искреннего и непосредственного удовольствия, получаемого от набоковского текста, что он максимально деидеологичен и не претендует ни на истинность, ни на иконичность, ни на роль конечной смысловой инстанции. Смысл в нем обнаруживает себя только в ускользании и рассеянии, и достраивание, "упаковка" смысла - дело рук многих авторов, читателей, критиков. |
| Природа удовольствия, получаемого от набоковского текста, полностью невыговариваема; будучи заложена в письме, оно не выражается каким-либо одним идеографическим знаком, а только всеми вместе, всем кордебалетом. Это удовольствие подпадает под определение, данное в эссе Ролана Барта "Удовольствие от текста": "Удовольствие - настоящее эпохе (воздержание от суждения и говорения), барьер, удерживающий на расстоянии все общепринятые (сами себя принимающие) ценности; удовольствие - это сама нейтральность (форма демонического, более всего проникнутая перверсией" (Барт 1994:516). И в демонической изощренности этого удовольствия в не малой мере повинны текстуальные гедонисты: внутренние авторы и внутренние читатели. |
| "Гносеологическая гнусность" Цинцинната заключается в том, что он осуществляет модернистский проект, создавая целостный и аутентичный текст как проекцию своего подсознания, раздробленного и конечного; он самоидентифицируется с текстом и окружает его аурой истинности. Все построения Цинцинната разрушаются прозрачным, а-модернистским автором, который конституирует текст как игру дифференций, гарантируя различия между текстом и его иным. Прозрачный автор, пребывая внутри повествования, в то же время оказывается его Иным (Языком, Традицией, Читателем, Интертекстом, Анаграммой, Синестезией и т.д.). Обезглавливанье - это символическая кастрация, которой подвергается непрозрачный автор в наказание за его садомазохистскую субверсию. На модернистском уровне текста приговор был приведен в исполнение и Цинциннат был обезглавлен, зато на анаграмматическом уровне Цинциннат распадается на множество пара- и интертекстуальных фрагментов, уходит "в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему". Цинциннат совершает обратное движение из графоцентрической в логоцентрическую парадигму, оставаясь при этом только рудиментом традиции или интертекстуальной загадкой. |
|
|
| Библиография: |
| Барт 1994: Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика., М. |
| Вагинов 1991: Константин Вагинов. Романы, Л. |
| Бицилли 1936: Петр Бицилли. "Возрождение аллегории". - в: "Современные записки", №61, Париж. |
| Давыдов 1982: Сергей Давыдов. "Тексты-матрешки" Владимира Набокова, Munchen. |
| Де Ман 1979: Paul de Man. Allegories of Reading, New Haven. |
| Де Ман 1993: Paul de Man. The Resistance to Theory, Minneapolis, London. (перевод цитируется по: Поль де Ман. "Гипограмма и инскрипция: поэтика чтения Майкла Риффатера". - в: Новое Литературное Обозрение, №2, М., 1993) |
| Долинин 1989: Александр Долинин. "Цветная спираль Набокова". - в книге Приглашение на казнь. Рассказы, М., стр. 438-470 |
| Долинин 1991: Александр Долинин. "Бедная Лолита". - в книге: Лолита, М., стр. 5-14 |
| Долинин 1994: Александр Долинин. "Двойное время" у Набокова. ( От "Дара" к "Лолите"). - в сб. Пути и миражи русской культуры, С.Пб, стр. 283-323 |
| Жолковский 1994: А.К. Жолковский. Блуждающие сны, М. |
| Линецкий 1994: Вадим Линецкий. Анти-Бахтин - лучшая книга о Владимире Набокове, С.Пб. |
| Набоков 1973: Vladimir Nabokov. Strong Opinions, NY. |
| Набоков 1988: Владимир Набоков. Романы, М. |
| Набоков 1989: Владимир Набоков. Лолита, М. |
| Оуэнс 1991: Graig Owens. The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism, - in: Art after Modernism: Rethinking Representation, ed. Brian Wallis, Boston, 1991 |
| Сиксус 1994: Элен Сиксус. "Женщина-тело-текст", - в "Художественный журнал", №6, М., стр. 36-40 |
| Степанов 1984: Юрий Степанов. В трехмерном пространстве языка, М. |
| Стюарт 1978: Dabney Stuart. Nabokov: The Dimensions of Parody, London. |
| Ямпольский 1994: Михаил Ямпольский. "Жест палача, оратора, актера", - в сб:"Ad Marginem", М. |
|
|
|
|
 |
|