 |
 |
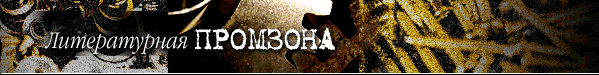 |
 |
 |
 |
Рефлексии |
Дмитрий Голынко - Вольфсон
B A G A T E L L E
| Довольно, время: кончим этот спор. |
| Твою однообразную канву |
| Я принимаю: я по ней живу. |
| но для чего цветущей жизни вязь |
| Узором мертвых дней переплелась? |
|
| 1935 |
|
1
"Вязь цветущей жизни, переплетенная узором мертвых дней" - такова проза Бориса Садовского. Она так и просится в салон антиквара, в архивный раритет, сброшюрованный из "безделок". Почти все его новеллы и высказывания отмечены несколько плутовской приверженностью "золотому веку" и не менее артистической неприязнью к авангарду; многообразие использованных у него металингвистических приемов закамуфлировано подчеркнутой сухостью тона и классицистичностью речевых оборотов. Но даже на фоне эго-кубо-футо-и-прочих новаций двадцатых его проза блестящий материал для экзерсисов в теории стиля. |
| Подражания, калькирование внелитературных форм повествования из бытового ряда, копиистика деловых бумаг, архивных документов, семейных хроник, образуют три дореволюционные книги: "Узор чугунный" (1911), "Адмиралтейская игла" (1915), "Лебединые клики" (1915). Роман "Карл Вебер", изданный в 1928 году, и повести "Амалия", "Наполеониды" - арлекинада сюжетных ходов, головокружительные вариации со "сказочным хронотопом". Автор манипулирует фишками героев, самовольно задавая им правила, темп и амплитуду исторических и географических скачков, причем траектория их фабульного движения соединяет щедринскую Россию с гофмановской Германией, а Турцию Распе с пушкинским "петровским Петербургом", костюмированным под "Арапа...". В поздней прозе, например в "Александре Третьем" мозаичная перекличка манер становится орнаментальным костяком сюжета: это напоминает театральный прием decоr simultane, когда декорации - литературные и разговорные стили, распространенные в стилизуемую эпоху - предстают читателю/зрителю одновременно. |
| Уже в первом сборнике рассказов традиционную уравновешанность образцов бытового письма девятнадцатого века подтачивает гротескная клоунада: будто из почти на пол-века предвосхищенного постмодернистского райка паясничают, напичканные требухой ассоциаций, фигурки разнородных персонажей. В рассказе "Праздничный день поручика Матрадурова" контекстом их иллюзионного фланирования, игровым полем олитературенного сознания, становится, конечно же, Невский проспект: |
| Невский проспект, по обычаю, пестрел и переливался живыми волнами. Гусары, кавалергарды и штатские щеголи, в высоких, трубоподобных шляпах, в бекешах и меховых плащах, небрежно выступали мимо изумленного провинциала в зеленых ватных перчатках и пуховом картузу: тут же прогуливались знаменитые писатели, Греч и Булгарин, чиновник из департамента Иван Александрович Хлестаков, камер-юнкер Пушкин с женой, княгиня Лиговская с мужем и дочерьми, князь Мещерский, граф Владимир Сологуб, тамбовский помещик Евгений Онегин, - все одни и те же изо дня в день, надоевшие, примелькавшиеся лица." |
| В символике "начала века" Невский проспект - оптическая ось взгляда в прошлое, схватывающего и конденсирующего его дагерротипную культурную атрибутику: евгений онегин, барон бромбеус, хлестаков, пушкин, лиговская, etc. Стилизуемое балаганное прошлое, сплетенное из обманчиво достоверных исторических и мнимо недостоверных, фиктивных литературных фактов, становится многопланово-пародийным из-за вторжения современного языкового сознания автора. Для него все мотивы являются либо объектом археографической реконструкции (подражание), либо языкового остранения (стилизация), либо перетасовкой планов и точек зрения (пародия). |
|
2
|
| Стилизация - вид "перевода" (traduction) в брутальной ницшевской транскрипции: завоевание. Присвоение чужих языковых фигур, чужого стилистического сознания. Захват чужого лексического тезауруса. Реквизит стилизации строго обусловлен временными привязками, и у современной аудитории вызывает резонанс иного, но единого времени. Стилизацию может разрушить любой анахронизм или неточный оборот: если он сознателен, то текст оборачивается коллажом художественных языков, постоянной сменой традиций. |
| В русской гуманитарной науке теории стилизации практически не существует: самая отточенная дефиниция данного металингвистического явления принадлежит Михаилу Бахтину: |
| Всякая подлинная стилизация, как уже сказано, есть художественное изображение чужого языкового стиля, есть художественный образ чужого языка. В ней обязательно наличны два индивидуализированных языковых сознания: изображающее (то есть языковое сознание стилизатора) и изображаемое, стилизуемое. Стилизация отличается от прямого стиля именно этим наличием языкового сознания (современного стилизатора и его аудитории), в свете которого и воссоздается стилизуемый стиль, на фоне которого он приобретает новый смысл и значение. Это второе языковое сознание стилизатора и его современников работает на материале стилизуемого языка: непосредственно о предмете стилизатор говорит только на этом чужом для него стилизуемом языке. |
| Образ языка, создаваемый стилизацией, - наиболее спокойный и художественно завершенный образ, допускающий максимум доступного для романной прозы эстетизма. Поэтому великие мастера стилизации, как Мериме, Франс, Анри де Ренье и другие, были представителями эстетизма в романе (доступного этому жанру лишь в узких пределах). |
| Садовской-стилист - эстетик с холодным скепсисом, обусловленным причастностью к "сонму избранных" - Пантеону русских классиков. Но холод эстетика - холод горения: ведь бледное пламя (pale fire) - эпицентр огня, точка испепеления. |
| В более поздней работе Бахтин конкретизирует стилизацию как переосмысление последней смысловой инстанции и сведение ее к литературной условности: |
| Стилизация предполагает стиль, то есть предполагает, что та совокупность стилистических приемов, которую она воспроизводит, имела когда-то прямую и непосредственную осмысленность, выражала последнюю смысловую инстанцию. Ведь стилизатору выжна совокупность приемов чужой речи именно как выражение особой точки зрения. Он работает чужой точкой зрения. Поэтому некоторая объектная тень падает именно на самую точку зрения, вследствии чего она становится условной. Подражание не делает форму условной, ибо само принимает подражаемое всерьез, делает его своим, непосредственно усвояет себе чужое слово. Здесь происходит полное слияние голосов, и если мы слышим другой голос, то это вовсе не входит в замыслы подражающего". |
| При подражании становится самоцелью соблюдение моторики чужого письма и сохранение модуляций чужой речи. Подражание можно уподобить реплике литературной эпохи или ее самодовлеющему монологу, дублированному безоценочно, без каких-либо аффектов восприятия чужим сознанием. Мастер подражания, безусловно, эрудит в истории языка и отчасти научный работник, но от подделок его часто отдает холодным любительством, а не призванием, и злые языки не без убийственной логики зачисляют его в рубрику "умышленный эпигон, плагиатор, etc. |
| Мой рассказ в стиле XYIII века, напечатанный в "Весах", очень понравился Петру Ивановичу (Бартеневу -Д.Г.). Долго не хотел он верить, что это сочинено. - "Какой подлог: в Англии вам бы за это руки не подали". Насилу я убедил его. |
| При появлении рассказа ("Под павловым щитом" - Д.Г.) в печати, критик "Голоса Москвы" обвинил автора в плагиате, причем указывал на "Записки" Тургенева, откуда почерпнут был описанный случай. |
| В поэтическом арсенале у Садовского два вида стилизации: тематическая и языковая. Языковая работает над канонизированным языковым материалом с его устойчивыми метафорами, риторическими оборотами, референтными отношениями и служит подъемным мостом для интерпретатора стилизуемой эпохи. Это археологические этюды по реконструкции утраченных стилей и категорий мышления, сохраненных разве что в памяти Языка. |
| Теперь приближался я к горестнейшому событию всей моей жизни, которое описать не имею сил. В полдень Анета вручила Господу праведную свою душу. Меня допустили к ней, когда уже она успокоилась навеки. Пав в отчаяньи перед роковым ложем, я рыдал, не слушая никого, как бы забыв, что в гостях у меня сам Светлейший. Люди сказывали после того, что, глядя на меня, все кругом голосом рыдали. (Черты из жизни моей) |
| Любезный племянник! Прекрасных люби, сам же любови женской остерегайся пуще заразы. (Из бумаг князя Г.) |
| При транспонировании старого языкового материала в тональность современного сознания, он оказывается деформирован новыми словарными смыслами, полученными в результате эволюции и трансфигурации лексических значений. Языковая стилизация - феерическая инферналия переиначенного, поставленного с ног на кон головы, смысла, показывающего читателю язык при каждой искрометной остроте и словесном каламбуре. Структурно она близка к пародийной стилизации в бахтинской интерпретации: |
| ...интенции изображающего слова не согласны с интенциями изображаемого слова, противоборствуют им, изображают действительный предметный мир не с помощью изображаемого языка, как продуктивной точки зрения, а путем его разоблачающего разрушения. |
| Садовской разрушает и разоблачает языковые конструкции старосветских исповедей или фетовских меморий, шаржированных в "Записках". В "Табакерке" и в "Записках актера" он фарсово обыгрывает популярную беллетристическую мишуру. |
| Тематическая стилизация - инструмент для милитаристского преобразования исторической памяти, когда современными языковыми средствами и индивидуальным авторским стилем - аскетичным, чопорным, рафинированным - создается словообраз времени. Так, только после появления "Александрийских песен" Михаила Кузмина в русском эстетическом сознании прорисовались контуры и рельеф эллинистического нарциссизма, александрийской восхитительной опустошенности. |
|
3
|
| Разрабатывая семиотическую модель реалистического романа, Борис Успенский высказал гипотезу, что позиция автора-скриптора распадается на точку зрения неосведомленного наблюдателя, компилятора непосредственно в момент описания увиденных мизансцен и явлений, и на точку зрения au dessus панхронного Автора, держащего в руках все снурки интриги, все предыстории и концовки, и оттого способного комментироватть внешние события, запротоколированные первым. |
| В стилизации обе эти полярные точки зрения совпадают в одну синтетическую точку зрения стилизуемого/стилизованного Языка, в один подвижный лингвистический "гештальт". Курт Коффка, зачинатель гештальтпсихологии, проговорился: "Память - обращенность к будущему": видимо, работа с прошлым Языка и есть его обмирщение, обогащение прочно забытыми, то есть будущими, парадигмами. В композиционном панно текста такую обобщенную, синтетическую точку зрения, одновременно и снаружи, и изнутри повествования, окрестим словесной маской. Сконструировав ее, автор стилистически гримируется то в лукавого шпильмана немецких сказок, то в московского генерала с патетическими ужимками. В "Двуглавом орле" ракурс словесной маски постоянен на всем протяжении текста: |
| В 1755 году первопрестольная Москва хранила еще древний свой величавый образ: еще никакие новшества не дерзали вторгнуться в сей христианский город и перестроить православную столицу на бусурманский лад(Глава четвертая. Москва) |
| Любил он книги божественные и читывал помногу, но от книг пуще обуревали злые думы, и, грызя ногти, мрачный, запирался он ото всех на ключ,покудова тоска сама его не оставляла (Глава пятая. Петербург.) |
| Конечно, полностью воспроизвести речевую ткань восемнадцатого века в прозе начала двадцатого невозможно: стилизация - попытка более или менее точно передать конфиденциальность или патетеичность тона, колорит и фактуру принятых тогда речевых высказываний. |
|
4
|
| В ранней прозе Садовской близок к биографическим версиям Владислава Ходасевича ("Жизнь Василия Травкина", "Державин"), а в поздних он кое-где раскладывает фантасмагорический пасьянс чужеязыкового материала, подчинивший себе поздние романы Владимира Набокова или полифонию Саши Соколова. Ведь затворничество, уединение и непричастность иногда так оттачивают речь, что она уводит одинокий голос далеко в будущее. Если повествователь ставит языковые образы эпохи в неприемлемые для них стилистические ситуации (в "Амалии" гоголевско-щедринское чиновничество помещается в королевство из старой немецкой сказки), навязывает слову или сочетанию чужевременные отттенки, он вынужден сменить словесную маску, а старую отправить в утиль читательского восприятия. Игривая эквилибристика пространственно-временными диспозициями уподобляет текст монтажу из поочередно примеряемых автором словесных масок. Достигается это комбинацией грамматических форм первого и третьего лица ( в"Пшенице и Плевелы"), времен и видов глагола,etc. Истинное стилистическое credo писателя намеренно ретушируется в камере-обскуре заимствованных манер,проступая в его сознательной художественной воле при выборе той или другой маски. Видимо сам Язык репетирует захватническое сальто автора по плацдармам историко-культурных традиций: от любовной записки екатерининской фрейлины и застольного тоста гусарской пирушки к либертинажу подметной прокламации и так далее. Коллаж из чужих языков и стилей в собственном тексте определяется Бахтиным как вариация: |
| Вариация свободно вносит чужеязыковой материал в современные темы, сочетает стилизуемый мир с миром современного сознания, ставит стилизуемый язык, испытуя его, в новые и невозможные для него самого ситуации. |
| Почти все опыты Садовского спровоцированы пристальным чтением литературы восемнадцатого-девятнадцатого века: в "Записках" продемонстрирован метод накопления услышанных и вычитанных анекдотов в плюшкинскую "золотую кладовую" ассоциаций. В текстах с установкой на чужой язык выпячивается проблема номинации: говорящие имена персонажей и бирюльки топонимики - реликты культурных традиций, мозаично скрещенные в гибрид (титулярный советник Помпей Ильич Дрозд-Деряба, экзекутор Август Карлович Моравский, герцог Мельхиор Семнадцатый, ректор Пфаффиус в "Амалии"; Арий Петрович Бездыханский, Анна Павловна Малларме-Скрипакаева в "Наполеонидах"). Этикет неоромантизма диктует особое пристрастие к реверансам ориенталий ("Черный перстень", "Дама червей"). |
| В механизме вариации задействованы: прямое и косвенное цитирование, явная и скрытая аллюзия, и наиболее редкий, замысловатый прием, когда кульбиты фабулы замыкаются во взаимные метаморфозы чужих текстов, образующие сюжетный фон (второй план). Обнажение и канонизация этого приема произойдет гораздо поздней Садовского, у Михаила Берга в романе "Рос и я": свидание Инторенцо (эфиромана-dzani из психоаналитической commedi^и dell arte, примеряющего то цинично-гротескный лярв Александра Введенского,то мученический лавр Осипа Мандельштама) с первой женой разыгрывается в перетекающих друг в друга интерполированных пассажах из "Метели" и "Войны и мира"; у Садовского этот прием присутствует в потенциальном, свернутом виде только в "Александре Третьем". |
| "Кусковой композицией" называл Юрий Тынянов подобную мозаику из намеренно-несвязанных отрезков, срежисированнных каждый со своей словесной маской, со своей пространственно-временной и фразеологической точкой зрения.Присмотримся к двенадцатой главе "Бирюза". Одна маска: |
| В охотничьем замке близ Вены эрцгерцог Рудольф и Мария Вечера пьют портвейн; красавица смеется; ручной ворон у эрцгерцога на плече. |
| Маска меняется: |
| В мраморном дворце у поэта К.Р. литературное утро. Августейший хозяин, изящно грассируя, читает поэму. Майков и Полонский приятно улыбаются; в группе гвардейцев и дам представительный Случевский, застенчивый Страхов, слоноподобный Апухтин. |
| Третья маска: Толстой тачает сапоги для Фета ко дню юбилея;с ремешком на лбу соображает,загоняя в каблук гвозди,девственник ли сын его Лев. |
| Четвертая,примиряющая все: |
| По всей России беззаботно встречают Новый год. И белые ангелы поют ей по-прежнему: слава в вышних. Но уже иные сердца внимают им. |
| Фабула "Александра Третьего" - разворачивание старинных календарных листов (каждая глава соответствует одному месяцу 1888 года и названа его камнем-покровителем, отсылающим к символике Небесного града), распечатывание колоды чужеязыковых аранжировок, перетасовка жанровых картинок. Структура этой аппликации максимально приближена к поэтическому тексту, абзац выполняет функцию отдельно продекламированной строфы. Проговаривая один за другим нексколько абзацев, замечаешь, что они обыгрывают разные языковые и идеологические стили, а граница абзаца (строфический предел) сигнализирует о сломе старой и появлении из-под нее новой стилистической маски.Образуя литературный ряд, строфические члены (абзацы, главки, предложения, etc) являются не только пассивными элементами - мозаичными осколками варьируемого текста, но и самодостаточными операторами, согласующими весь отрезок как с самим литературным рядом,так и с интенциями автора. |
|
5
|
| В статье "Традиция и индивидуальный талант" Томас Стернс Элиот возвел Традицию в ранг первой скрипки, наделил ее правами продуцировать образы, а индивидуальные черты автора сослал в ее многоярусную тень. У Ролана Барта моделируется мистерия "смерти автора", погребенного в многоязычном вертепе традиции и утратившего дискурсивность свойственных только ему одному языковых приемов.Традиция в апогее своего единовластья вытесняет наработанную оригинальность автора, делает его видение более холодным, гибким, всезнающим, ироничным. |
| Садовской, присягнувший классической традиции, отважился отстаивать перед ней свою художественую волю легкокрылой псевдо-пушкинской иронией. Ведь ирония - вид отстранения, трагического валяния дурака при отказывании традиции своего стилеобразующего места.Прячущийся за расцвеченную ширму традиции автор отбрыкивается от ее заманчивых узоров, превращающихся в шоры. Иронизируя над ней, перед ней фрондируя, он вольно или невольно предлагает читателю травести чужих стилей. |
| Читателя позднего Садовского удивит парадоксальное введение эстетики абсолютной иронии в классический канон карамзинистской прозы. В амплуа сознательного отказника от современных ему формальных поисков ( "я классик пушкинской школы, затесавшийся случайно в декадентскую компанию" ) Садовской - лукаво подмигивающий ироник, эйрон в первоначальном значении - хвастун в сторону преуменьшения своих качеств, камуфлирующий свою личность при обряжении в канонические литературные формы. Способы авторского притворства и обманных ходов выявлены в книге Бориса Успенского "Поэтика композиции": |
| ...случай, когда имеет место несовпадение позиции автора и позиции читателя (зрителя), причем это несовпадение сознательно предусмотрено автором...подобное несовпадение авторской и читательской позиции составляет вообще существо приема иронии: при этом характерно, что автор говорит или действует от некоего лица, но само это лицо выступает не как субьект, а как обьект оценки...Ирония, тем самым, предстает как специальный случай притворства автора, которое противостоит естественной позиции читателя...Аналогичный сдвиг точки зрения воспринимающего (читателя) очень часто имеет место в анекдоте - когда все происходящее воспринимается сначала с одной точки зрения, а потом неожиданно оказывается, что воспринимать надо было с совершенно другой...Та или иная композиция, сводящаяся к определенной динамике позиции воспринимающего (относительно авторской позициии), по видимому, вообще характерна для комического. |
| Действительно, автору ничего не стоит обвести читателя вокруг пальца показной серьезностью, и, вчитываясь в "Карла Вебера", "Наполеониды", "Пшеницу и плевелы", не сложно проглядеть ироническую, чуть язвительную усмешку или гримасу писателя, виртуозно зашифрованную им в карнавале словесных масок. |
| Возможно читателя заинтригует акробатическая катавасия случайностей и закономерностей в прозе Садовского, особенно в "Наполеонидах". Там герои вычерчены по трафарету с мистически соприродных им исторических персонажей и без сбоев исполняют партии только на предначертанной им шахматной клетке исторического времени. Передвижение на иновременную клетку, самовольное и преступное, приводит к контрапунктической неурядице, к ситуации трагифарсовой неразберихи: |
| За столом сидели два Наполеона. Первый и Третий. Один был мрачен,как после битвы под Лейпцигом, другой сиял, точно готовился праздновать победу при Сольферино. |
| В ералаше водевильных ухаживаний Коридолин (Наполеон Третий) без труда отбивает Женечку Арбузову (Евгению Гранде) у незадачливого претендента Ария Петровича (Наполеона Первого), заявившегося свататься явно не из той эпохи. Неудачны любые попытки Ария Петровича выпутаться из навязанной некоей роковой силой (глава II - Роковая сила) инсценировки уподоблений: никуда ему не деться от продиктованной сверху пришпиленности к Анне Павловне (Жозефине). Обручением двух псевдо-императорских пар и оканчивается этот маскарад двойничеств. |
|
6
|
| У Кирико в "Новой энциклопеди" я вычитал остроумное наблюдение: человек, на долгий срок прикованный к постели, начинает прустовствовать. Садовской, разбитый параличом в келье Новодевичьего, сводил с утраченным временем и с боязнью умиранья свои, часто загадочные счеты. |
| Не менее занимателен, чем ремизовский лубочный реестр сновидений в "Огне вещей", перечень смертей у Садовского; они до безобразия натуралистичны и символичны одновременно. Инвентаризация их скрупулезных описаний вызывает удивление, если не догадку: не играет ли автор уже на той стороне, на стороне танатоса. Создается впечатление, что многие эпизоды, особенно "Записок", надиктованы делезовским инстинктом смерти (фрейдовским влечением к смерти, возведенным на пост философской, да и эстетической категории), ведь Садовской не только дает почувствовать свое отторжение от смерти, но и смакует свое влечение к ней. Александр Блок,его довольно редкий собутыльник: |
| Впервые я виделся с Блоком в ноябре 1906 года на вечере у Брюсова. Тогда он казался свежим юношей цветущего здоровья. В его улыбке и взгляде было нечто от Иванушки-дурачка. Весной 1911 в Петербурге зашел я к Блоку утром и застал его за непочатой бутылкой. - "Садитесь,будем пить коньяк." |
| также по бесшабашности молодости, вальсируя, переступил одной ногой по ту сторону и с дуракаиванной прытью попытался изучить веселую науку (Gaya Scienza) прелюдирования перед небытием; о своем титаническом фиаско он неоднократно проговаривался в "Плясках смерти", "Жизни моего приятеля", "Демоне". Видимо, стилистические опыты познания смерти и растворения в ее всепоглащающей и миротворной театральности - только тренировка принять ее без укоров и проклятий, а может - поиски способов объегоритть ее, сыграть с ней ваньку в прятки, парировать ее, надуть, смухлевать... Нам предлагается расфасованный на прилавке танатологии, загипнотизированный словом, ассортимент: тут и смерть князя Куретова в "Лебединых кликах", этакого гомозейковского дьявола: ради сатанинской забавы он переряжается в медвежью шкуру и приказывает травить себя собаками. После нескольких сеансов оборотничества он оказывается перетянут на ту сторону и растерзан обезумевшей сворой. |
| Собаки сгрудились и полезли валом; видна была одна огромная копошащаяся куча; барахтаясь и рыча, псы рвались на зверя, не слушая ни арапников, ни крику. Медведь не огрызался и не рычал, а лежал, распластавшись, молча. Когда свалили, наконец, со зверя собак,в страхе подошли к нему охотники, но не смели подступиться, покуда Скворцалупов не перевернул ничком лежащее тело: тогда увидели псари объеденную мертвую голову князя Куретова.Голый череп был весь ободран: иссиня-красное, как у мясной туши, изгрызенное лицо,без глаз и ноздрей, скалило блестящие зубы, сцепившиеся яростно в последнем предсмертном стоне. |
| Садовской, наверное, и не подозревал, что он в этой сцене воспризвел тотемическую форму мазохизма, приведенную Жилем Делезом в "Представлении Захер-Мазоха" |
| Зверь, которого травят и с которого сдирают шкуру - это первобытная гетерическая пренатальная мать, и убивается она ради матери оральной и ради возрождения, второго партеногенетического рождения. |
| Замыкает "Лебединые клики" абрис повешенного, словно срисованный с карты Таро, символизирующей Спасителя (Сотера). Ведь дворецкий Скворцалупов не так-то прост, как-никак лебяжеский сверхчеловек. |
| Лицо его в сумерках было страшно. С высунутого синего языка капала черная кровь, а искривленный закатившийся взор по давешнему подмигивал Сергею. |
| И уже опуская титры названий рассказов, скомпонованных в сборник "Адмиралтейская игла", мы можем прокручивать киноленту смертей, понимая, что это имено те эпизоды, когда доселе холодный автор вдруг проявляется deus ex machina негативом своего раскаленного ужаса перед смертью. И сопутствует этому веселящему ужасу сорвиголовное любование ею: |
| Могучий удар царского топора перешиб с треском на-двое последнее стрелецкое проклятие заодно с непокорной шеей. Косматая голова ударилась в стену и, раскатившись, припала белыми губами к солдатскому сапогу Данилыча. |
| Голова его разъята была на-двое вместе с фуражкой; тяжелая сабля смаху перешибла тонкое переносье и вытекший левый глаз и застряла в белых зубах, раздробив свеже-выбритый подбородок. |
| Совсем иное эйфорическое умирание великана Карла Вебера, забранное в скобки галлюцинаторного путешествия к Южному полюсу. Почти как в "Terra incognita" Набокова здесь катарсис языка сопровождает ритмическое утекание жизни героя из пальцев автора: |
| Добрые золотистые китайцы с косами смеются, кивают и превращаются в ласточек. Вечный как небо, белый кристальный город заискрился на лазурной высоте. Сердце переполнилось счастьем. Счастье - смерть. |
| В "Записках" тоже солируют образы смерти, причем они так обрамляют его биографию, что она, создается впечатление, забивается в подполье (souterrain) перед их психологически развязным dance la macabre: |
| Заглянул в щель и я. На подмостках лежал утопленник со вздутым животом, с ногами, объеденными раками. Сонный фельдшер лениво вскрывал череп. Пила скрипела. |
| Я велел открыть рогожу. Утопленник лежал синий, со стеклянными глазами, руки прижаты к коленям, лицо улыбалось. |
| Смерть у него часто неожиданный жребий, выпавший не на ту клетку жизни и подведший под удар совсем не ту фишку, коей он предназначался. |
| Редактор "Золотого руна " Тароватый, высокий, тощий блондин, сказал одному приятелю: "Мне кажется, вы умрете от менингита. Знаете, какая это болезнь? У человека заживо гниет мозг; он пригибает от боли затылок к пяткам и воет собакой.". Через несколько дней Тароватый умер от менингита в ужасных мучениях. Он был еще жив и стонал, а его уже дожидался запасенный в передней гроб. |
| Таких довольно скверных анекдотов полным-полно в "Записках". Кажется, что это каталог безобразного, вкрапленного в рутину повседневных чаепитий, поездок, замужеств, рождений: |
| На вокзале статный, кудрявый юноша стоял ко мне спиной. Когда он обернулся, я увидел вместо носа у него черный кружок из пластыря. Пальцы его были забинтованы. .- "Что с вами?".Он объяснил, что сердце плохо работает и пальцы, не получая питания, гниют. Он развернул повязки. Пальцы походили на обгорелые сучки. - "Всю Европу изъездил, не помогли: от боли впрыскиваю постоянно морфий и уже сделался морфинистом. Сердце, увствую, как раскаленный уголек. Еду теперь в Харьков, чтобы отрубили пальцы.". Он спрятал шприц и задремал, пустив на жилет слюну. |
| Словно богдыхан из кузминского "Соловья" Садовской объегорил собственную смерть, заговорил ее: его не расстреляли в двадцатые, в тридцатые не интернировали, дали умереть естественой в пятьдесят втором, в инвалидной коляске, в коммунальной келье Новодевичьего. И смерть поставила на его прозе свой товарный знак, свою пробу, демонстрирующую, что его произведения можно судить по гамбургскому счету, они достаточно сильны и живы для этого. Ведь кто не опознал смерть в тех формах живого, в которые она мимикрирует, едва ли сумеет овладеть почерком жизни, едва ли станет господином над иллюзионом реальности и над своей творческой фантазией, продуцирующей высшую реальность литературы. |
|
7
|
| Мотив двойничества для Садовского не только расхожий романтический пируэт, но и жизнестроительный момент. Подменой одной буквы в фамилии (Садовский на Садовской), он узаконил рождение своего литературного протеже-двойника.Этот parvenu, заслонив корпусом текстов черты человека, присвоил себе его страдания. Случай в истории литературы обычный. Способ фабрикациии литературного alter ego разобран Юрием Тыняновым в статье "Литературный факт": |
| Я говорю о "литературной личности"...Существуют явления стиля, которые приводят к лицу автора; в зачатке это можно наблюдать в обычном рассказе: особенности лексики,синтаксиса, а главное, интонационный фразовый рисунок - все это более или менее подсказывает какие-то неуловимые и вместе конкретные черты рассказчика; если рассказ этот ведется с установкой на рассказчика, от лица его, то эти неуловимые черты становятся конкретными до осязательности, складываются в облик. |
| Словно Кузмин, Ремизов, Вагинов и некоторые другие его современники Садовской своей судьбой оправдал метафору "жизнь в литературе". Но избранное |
| им и обжитое культурное пространство было несколько нарочито и ограничено ; пристрастие к определенным вариантам исторического письма сковывало его языковую фантазию. Очевидно, отого и не сорвал Садовской крупный куш читательского признания, что сделал ставку исключительно на канонические культурные формы: он оказался чудным аналитиком стилей Державина, Пушкина, Фета, но гетевская тема синтеза ускользнула от него. Он обожествлял культуру-дарохранительницу, реликварий: вероятно, он разделил бы bon mot Хейзинги, что культура - честная игра (a fair play) со строго-настрого регламентированными правилами, границами, участниками. Но возможно, творчество как раз преодоление культуры, бессчестное баловство с ее символами, жульничество, самовольный выход из общедоступной, кое в чем уже ставшей ординарной, игры. Вероятно, творчество - апофеоз независимости, подчиняемое только своей прихоти миметическое паясничанье в представлении, задаваемом на собственный чистоган стиля. Проза Садовского иллюминирована лавровыми отблесками классиков девятнадцатого, и он предлагает читателю восхитительно и восхищенно сработанную тару для легкодумной болтовни, боготворимой его сподвижниками Пушкиным и Ходасевичем: |
| И все исчезнет невозвратно |
| Не в очистительном огне, |
| А просто - в легкой и приятной |
| Венецианской болтовне. |
| Быть может, эталон Литературы - это и венецианская болтовня,и |
| "конфекты от кашля из ягоды сюжуб, из лакрицы с анисом, яблочный сироп, камедные шарики, леденцы ячменные, каштаны в сахаре с померанцевым светом, розовая вода, индийская пастила катунде. |
|
|
| 15 мая - 1 июня 1993 года |
|
|
|
 |
|